![]()
Алексей Кардаш анализирует спекулятивный материализм Мейясу, разбирает интересные аспекты этой позиции и старается сделать её как можно более ясной.
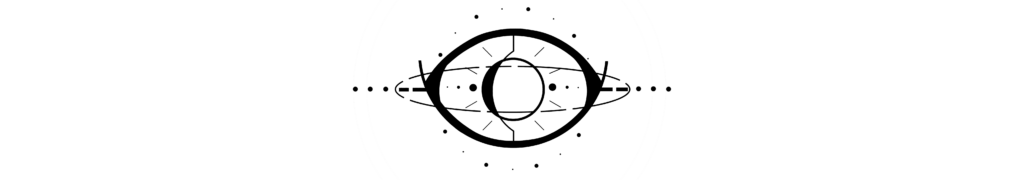
Хотя философию часто представляют публике как направленную во все стороны человеческую любознательность, сами философы с завидной регулярностью создают опорные символы, на которых хотя бы на какое-то время сосредотачивается основное внимание. В последние годы для континентальной философии одним из таких символов стал спекулятивный реализм, который, согласно мнению его сторонников, привел к целому спекулятивному повороту. Как и любая другая большая история, эта тоже началась с малого, а именно с публикации в 2006-м году «После конечности», емкого дебютного труда Квентина Мейясу, в котором он изложил свою позицию, известную как спекулятивный материализм.
Но и захватывающая философия Мейясу имеет свою явную точку отсчета – критику и одновременно описание корреляционизма, под которым в общих чертах и в первую очередь имеются в виду ближайшие предшествующие тренды континентальной философии от феноменологии до постмодернизма. Изобретение или обнаружение корреляционистов стало самой влиятельной новацией француза, а поэтому другие спекулятивные реалисты и связанные с движением мыслители скорее будут не согласны с любой иной позицией Мейясу, чем оспорят необходимость критики корреляционизма. Чтобы не ущемлять ваше любопытство, обозначу, что в первом приближении корреляционист – это тот, кто утверждает, что нельзя помыслить бытие само по себе вне его отношения с нашим мышлением.
Спекулятивный материализм Мейясу очень быстро привлек внимание и уже в 2008-м году «После конечности» предстала перед англоязычным читателем. Что интересно, книга быстро дошла и до русскоязычных философов – в 2009-м появилась первая рецензия, где-то с 2012-го начали появляться первые переводы и обсуждения. Когда в 2014-м благодаря энтузиазму переводчицы из Беларуси официально вышел перевод «После конечности», то это уже был выход на правах континентальной сенсации. Далее импорт спекулятивного поворота лишь набирал обороты. Когда же в 2018-м году Грэм Харман написал забавное введение в спекулятивный реализм с проверочными вопросами, то на русском оно стало доступно уже через год. Наверно, именно 2019-й стал одновременно и пиком массового внимания, и моментом постепенного спада, оседания спекулятивного поворота в академических публикациях, курсах по новой континентальной философии и общем багаже популярных идей современной философии. Спустя время можно констатировать, что спекулятивные тематики нашли свое место в русскоязычной академии сегодняшнего дня.
Вся эта акселерация популярности смешала три разные вещи: спекулятивный материализм как персональную позицию Мейясу; спекулятивный реализм как более общий ярлык, под знамена которого обычно ставят ещё и Грэма Хармана, Рэя Брассье и Иана Гамильтона Гранта, но в более широком смысле там же оказываются любые мыслители, тем или иным образом следующие за философской линией Мейясу; и спекулятивный поворот как совсем уж общий лейбл, куда включают те части континентальной философии, которые, как и спекулятивный реализм, несколько отгораживаются от феноменологии и постмодернизма. Например, в самом широком смысле в «поворот» входят не-философия Ларюэля, Жижек «Параллаксного видения», акселерационисты, не менее общий лейбл темной философии, любители философских рассуждений о хоррорах и т.д. Эффект такого смешения двояк: оно помогает продвижению, ведь на интуитивных связях между одним и другим мыслителем выстраивается целый мир новой философии с заготовленными маршрутами изданий, публикаций и публичных лекций. С другой же стороны, если мы надеемся разобраться хоть с какими-то вопросами, то в теоретическом плане от зачастую малосвязанного конгломерата идей мало толка. Для примера, тот же Юджин Такер, которого приписывают к спекулятивному движению, прямо говорил о том, что испытал влияние спекулятивной моды, но сам по себе склоняется к противоположным (иррационалистическим в его понимании) позициям, считая «спекулятивный реализм» оксюмороном.
Что характерно, Мейясу себя не считает спекулятивным реалистом, но одобряет движение во всей его широте, о чем писал напрямую и что в некотором роде следует из его позиции. Но вместе с тем можно говорить о вялотекущей распре между Мейясу и теми, кого он породил. Суть разногласий, как мне видится, состоит в том, что если для спекулятивных реалистов в целом корреляционизм, как ни крути, является нексусной концепцией, относительно которой и разрастается ризома их философии, и без которой их право на уникальность стремительно теряет свою силу, то Мейясу готов даже несколько сепарироваться от им же введенного термина, чтобы обратить внимание на свою позицию в большей степени как на материалистическую и спекулятивную. Отсюда у меня и возникла идея расколоть одну большую статью сразу обо всём на триаду текстов, где в первом, который вы сейчас читаете, будет сосредоточено внимание в большей степени на спекулятивном материализме в понимании Мейясу, в другом я попробую выяснить, существуют ли корреляционисты, а в третьем займусь гиперхаосом.
Предварительно замечу, что по каким-то причинам философию Мейясу принято с большего сводить к «После конечности», тогда как, на мой взгляд, в вышедшей спустя 6 лет статье «Iteration, Reiteration, Repetition: A Speculative Analysis of the Meaningless Sign» автор совершил самый настоящий философский реткон, то есть ощутимо изменил свою позицию в свете её рецепции и попросту прошедшего времени. Хотя статья формально посвящена развитию идей Мейясу насчёт математики, 17 страниц из 38 (в английском переводе) тратятся на то, чтобы заново представить общие идеи, которые ранее по его же мнению могли быть поняты неточно из-за стилистики первоначального изложения. Местами акценты смещаются очень явно и, справедливости ради, француз улучшает свою позицию, исправляя некоторые слабые места «После конечности».
Нюанс в том, что Мейясу вуалирует этот реткон, как и в самом тексте, так и в интервью, в которых повествует в едином теоретическом континууме, отчего и складывается соответствующее впечатление о том, что все уже было изложено [1]. Что касается русскоязычного пространства, то сначала я думал, что дело только в нахождении перевода «Итераций» за пейволлом из-за чего всё естественным путем сводилось к «После конечности». Но, когда я этот перевод все-таки увидел, то обнаружил, что раздел с ретконом просто убрали. Скорее всего, либо автор и редакция просто доверились словам Мейясу о том, что имеет место простой рекап идей, либо никто из людей, готовивших текст, не был в достаточной степени знаком с содержанием «После конечности», поскольку трудно не заметить то же введение субъектализма, гиперфизики (которая ещё и упоминается дальше по тексту), реакцию на Хармана и творческое включение тезисов Брассье о Беркли в свою теорию.
Бескровная революция абсолюта
На первый взгляд возникает стойкое ощущение, что Мейясу глубоко погружен в континентальную традицию и многие особенности его мысли можно объяснить этим фактом. В каком-то смысле это действительно так, что ярко проявляется в ситуациях вроде тех, когда вскользь критикуется Хайдеггер без каких-либо дополнительных пояснений его позиции для читателя. Другой известный пример – это влияние гегельянства, которое ярко проявляет себя в использовании терминологии становления, абсолюта и спекуляции. Кроме того, Мейясу включает Гегеля в тройку мыслителей, оказавших на него влияние. И если тут всё ясно, то две другие фигуры, возможно, удивят вас, поскольку ими оказываются Маркс и Дебор.
Подобные связи с традицией не должны обольщать нас, поскольку Мейясу хоть и философствует в континентальном стиле, но по большому счёту трактует все важные для себя понятия по-своему. Исходя из этого, имеет смысл сначала очертить позицию Мейясу сетью ключевых концептов, приведенных в его понимании, а уже после комментировать её. В ином случае всё может закончиться бесполезно и грустно – на уровне суждений о том, что, раз материализм и реализм Мейясу не понимает в их общепринятой или расхожей трактовке, значит он и не материалист, и не реалист. Или, что он как-то не так понимает Гегеля и Канта. Замечу, что я не преследую цели критики всех шероховатостей, стараясь вместо этого использовать позиции Мейясу для продвижения к рассуждению о философски интересных вещах.
Итак, для Мейясу имеет место «кантовская катастрофа», состоящая в том, что предшествующая ему континентальная (и не только) философия в большинстве своем предполагает запрет на доступ к реальности вне её соотнесенности с сознанием или его продуктами (мышлением, языком, текстом, политикой, теоретическими каркасами и т.д.). Соответственно, «После конечности» — это даже не столько попытка исправить всё, сколько сжиться с суровыми реалиями эры корреляции, в которой заправляют эти самые корреляционисты, всячески отстаивающие вышеописанный запрет.
Чтобы понять, что именно не нравится Мейясу давайте представим, что вы только отремонтировали гостиную и позвали друзей-философов оценить ваши труды. Вот приходит берклианец, вы его спрашиваете: «Как тебе мой новый дубовый стол?», а он отвечает: «Стол? А, наверное, ты имеешь в виду идею стола, которую я как активный субъект могу воспринять. Да-да, отличный стол, но как только я выйду из комнаты его больше не будет существовать». Следом к вам приходит хайдеггерианец, который, не дожидаясь каких-либо вопросов, рассказывает о «со-принадлежности сущности-человека бытию-присутствию» стола. Знакомый марксист заметит лишь, что обставили вы всё буржуазно. Пришедший с ним поклонник Бодрйияра скажет, что включенные в интерьер вещи объединены в систему нулевой функциональности, имитируя функции ради которых они не создавались. Ницшеанец скажет, что обставлять гостиную и звать людей смотреть на неё – это продолжение воли-к-власти. Философствующий психоаналитик где-то наверняка увидит симптом. Недавно прочитавший Патнэма, аналитический философ поразмышляет о том, действительно ли ваша гостиная является экстенсионалом слова «гостиная». Витгенштейнианец заметит, что хотя ваша гостиная в деталях не похожа ни на какую другую, но она связана с ними семейными сходствами. Делёзианец, допустим, скажет, что никакой гостиной с завершенным ремонтом здесь нет и не будет, поскольку есть лишь номадическая сборка материалов и не более того. Когда же под вечер вас навестит Мейясу, то он сразу же заявит о том, что знает, что никто из предыдущих гостей ничего толкового о гостиной и не рассказал. Но когда вы начинаете говорить, что действительно никто не заметил сочетание цветов стен и пола, не оценил расстановку мебели и эклектику в дизайне, то Мейясу перебьет, чтобы сказать, что ваш наивный реализм ничем не лучше россказней других гостей, а о действительно важном в вашей гостиной сможет рассказать только физик или математик…
Некоторые из упомянутых выше взглядов Мейясу считает не только корреляционистскими, но и метафизическими, противопоставляя им свою позицию, которая спекулятивна – в смысле предполагает доступ к абсолютной реальности, которая мыслима, но не с необходимостью (то есть эта абсолютная реальность была бы собой, даже если бы никто её не мыслил). В этом плане теоретик даже заявляет о своей старомодности, имея в виду, что защищает позицию, согласно которой мышление способно достигать «вечных истин» или же абсолюта. Естественно, он не пытается воскресить некую классику или вернуться к гегелевскому пониманию абсолюта. Просто на фоне таких вещей, как герменевтика подозрения, семиотика или тех же континентальных конструктивизмов некоторые аспекты позиции Мейясу выглядят как ретро-философия. Если же фон сменить аналитической философией, то спекуляция окажется не старомодной, а вполне себе идеей в тренде веритизма, который относительно недавно снова возник в эпистемологии как попытка воскрешения классического взгляда на истину в роли главной ценности познания.
Поскольку Мейясу не занимается метафизикой, то и абсолют, являющийся целью мышления, оказывается неметафизическим. Здесь стоит остановиться подробнее. Метафизику и спекуляцию Мейясу различает по критерию оснований (reason) суждений и теорий. Так, метафизика для него основывается в первую очередь на принципе достаточного основания (если нечто существует, то на то должна быть причина или у того должно быть основание), во вторую очередь на законе тождества («Х» есть «Х») и в третью очередь на законе непротиворечия (либо «Х», либо «не Х»). Для спекуляции Мейясу сохраняет лишь непротиворечие, причем в качестве «абсолютной онтологической истины», но с подвохом в виде своей интерпретации, которая, коротко говоря, состоит в выведение непротиворечия из отрицания закона тождества вещей во времени, поскольку чтобы вещь могла быть другой в будущем или в прошлом ей необходимо быть собой в настоящем.
Здесь же удобно заметить, что в самом абстрактном смысле своим теоретическим врагом Мейясу считает любой антиабсолютизм или, как он сам выражается, любую форму деабсолютизации. В столь же широком смысле Мейясу, на мой взгляд, корректно назвать спекулятивным абсолютистом, имея в виду, что абсолютисты бывают и метафизическими, а метафизики могут быть и антиабсолютистами.
Далее он настаивает на опции материалистического абсолюта, в рамках которого мысль достигает абсолюта, который лишен какой-либо субъективности и является внешним по отношению к мысли. На первый взгляд может показаться, что это материализм в смысле простого не-идеализма. На мой взгляд, в ряде случае так и есть, но это лишь second best опция. Более понятный идеал Мейясу – это материализм неорганической материи, поскольку для него только она может быть последовательно лишена субъективности и психологизма, включая приписываемую мнимую субъективность вроде воли Шопенгауэра. Для иллюстрации такого идеала приводится исторический пример эпикуреизма – материализма, претендующего на абсолютную реальность атомов и пустоты, как это видит Мейясу. Естественно, возможны и идеалистические спекулятивные или метафизические абсолютисты. Они представляют собой вторую когорту оппонентов Мейясу, к которым он уже более дружелюбен и, более того, в своем спекулятивном материализме вдохновляется спекулятивным идеализмом Гегеля.
Теперь же вернемся к абсолюту, который проще всего Мейясу объясняет, как вечные не-относительные истины, которые тем не менее не являются необходимыми. В «После конечности» он пользуется несколько иным объяснением, противопоставляя спекулятивный абсолют метафизическому, где первый отличается от второго тем, что не является какой-либо сущностью. В принципе, Мейясу соглашается, когда его позицию характеризуют как сводящуюся к «абсолютной необходимости без абсолютно необходимой сущности».
Таким несущностным абсолютом является принцип неоснования, согласно которому необходимое сущее невозможно, а контингентность (абсолютная случайность, не предопределенная набором возможных опций развития событий) необходима. Можно сказать, что только контингентность не контингентна. Иначе все это называется принципом фактуальности, который Мейясу формулирует через два не-интуитивных термина, производных от слова «факт». Собственно, фактичность – это невозможность определения того, необходимо ли нечто или случайно, что, согласно Мейясу, означает контингентность любой действительности. Фактуальность же – это указание на то, что сама фактичность не фактична, а абсолютно необходима.
Такой неметафизический абсолют Мейясу считает материалистическим – уже здесь как раз в смысле, неидеалистическим, поскольку для него идеалисты (Кант и Гегель) мыслят абсолютные сущности, держащиеся на принципе достаточного основания. От этого логического закона французский теоретик попросту избавляется, считая, что из нашего опыта и способности мыслить мы нелегитимно выводим необходимость мышления за счет принципа достаточного основания, и это ведёт нас к онтологии на манер немецкого идеализма. Тем не менее, определенная сущность Мейясу вводится, поскольку неорганическая материя, существовавшая до нас и способная существовать без нас, подпадает под его критерии абсолюта. Более того, он прямо говорил, что в «После конечности» есть и первичный абсолют фактичности, и производный абсолют чистой материи.
Финальными штрихами позиция Мейясу дополняется тем, что материалистический спекулятивный абсолют раскрывается с помощью современной науки и в первую очередь математики, которая в «После конечности» понимается как «лакмусовая бумажка действительности», ведь то, что математизируемо (об этой загадочной операции будет сказано позже) – то точно не соотнесено с нашим сознанием, а тем самым реально в спекулятивном смысле. Это подразумевает не только фактическую, но и гипотетическую реальность; и это достаточно любопытный нюанс, ведь Мейясу по сути пробабилист – человек, считающий, что знание носит вероятностный характер. Также Мейясу считает, что физика за счет математики способна верно описывать действительность, подчеркивая, что «физика является абстракцией математики, а не наоборот — математика является абстракцией природы». В пользу этого приводится любопытный, но странноватый довод о том, что математика может позволить себе числа с бесконечным количеством знаков после запятой, тогда как физики вынуждены округлять, пользуясь эвристикой значимого знака после запятой. Естественно, физик это делает, чтобы достигать решений с выходами на практику, тогда как Мейясу, видимо, пытается обратить наше внимание на то, что математик достигает решений и без округлений.
По вполне осязаемым причинам в целях объяснения спекулятивный материализм стоит дополнительно огрубить. Мейясу, считая необходимым признать доводы, закрывающие доступ мысли к реальным сущностям самим по себе (или вне мысли о них), находит лазейку в виде открытого доступа к не-сущностной стороне действительности (математизации, принципу неоснования), которая открывает нашему мышлению факты, этим же самым мышлением не скоррумпированные. Как минимум, о контингентности, гиперхаосе и неорганической материи.
Впоследствии Мейясу дополнил свою растиражированную идею интересным штрихом – он заявил, что его материализм полностью комплементарен эмпиризму. Мысль в сторону: возможно, вам это что-то скажет, если я напрямую отмечу, что именно самые популярные идеи «После конечности» были впоследствии скорректированы. И если до этого могло показаться, что Мейясу ратует за некий математический культизм, то в случае с одобрением эмпиризма он подключает версию anything goes Фейерабенда, заявляя, что все дисциплины, включая науку, искусство, литературу и т.д., в форме не-необходимости, имеют право на легитимное описание и объяснение мира [2]. Спекулятивный материализм же должен предотвращать любые попытки посягательств на суверенитет различных режимов и дисциплин опыта, поскольку успешное посягательство создает корреляционистский прецедент, где один опыт абсолютизируется или гипостазируется в ущерб другому. Такое дополнение выглядит странно, но в целом вяжется с более ранней версией спекулятивного реализма. Мейясу хоть и даёт всем дисциплинам волю, считая, что и поэт, и нейробиолог могут нам сообщить нечто важное о мире, но у этой вольности есть нюанс. Состоит он в том, что Мейясу разделяет описание фактов и постулирование необходимости. Сами факты для него не необходимы, а необходимость контингентности – это если и факт, то крайне необычный, единственный в своем роде. То есть если компетентный искусствовед говорит вам, что «Черный квадрат» прекрасен, то по Мейясу – это факт, но не необходимый.
Не друг, не враг, а субъекталист
В «После конечности» Мейясу разворачивал свои взгляды в полемике с фигурой врага – корреляционизмом, о котором подробнее сказано в тексте-побратиме. Как отмечают многие, анти-корреляционизм – это по сути единственная внятная общая черта всех тех, кто называет себя спекулятивными реалистами.
В ретконе Мейясу существенно изменил место корреляционизма. Во-первых, он явно указал, что спорил с теоретической конструкцией, которую постарался сделать наиболее похожей на реальные позиции философов. Во-вторых, корреляционизм плохо сочетался с некоторыми взглядами, вроде абсолютного идеализма, которые Мейясу всё еще хотел критиковать – если в «После конечности» он пользовался рассуждением о «гипостазировании корреляции», которое и ad hoc решение, и просто плохой аргумент, то позднее Мейясу нашел куда более изящный выход, разделив корреляционистов и субъекталистов. Возможно, нечто прояснится, если я упомяну, что корреляционизм рассматривался Мейясу как замена идеализму в качестве основного противника «приличной философии».
Так, субъекталисты предшествуют корреляционистам и являются теми, кто ввел аргумент корреляционного круга, согласно которому бытие невозможно помыслить вне его отношения с мышлением, поскольку сама такая мысль создает прагматическое (перформативное) противоречие, связанное с тем, что человек пытается помыслить что-то, не помыслив его. В частности, эта заслуга приписывается Беркли. И здесь можно начинать представлять себе картину Сатурна, пожирающего своих сыновей. Поскольку нигилизм Брассье Мейясу считает наиболее близким своему спекулятивному материализму, то идея коллеги из «Понятий и объектов» о том, что Беркли – главный корреляционист – лишь несколько исправляется.
Так кто же такие субъекталисты? Для Мейясу – это философы, для которых существует или только субъективное, или же все существующее понимается лишь в свете некоторых форм субъективности. Такими формами могут быть сознание, восприятие, свобода, воля, ощущение, жизненные порывы, разум, самость, желание, либидо, бессознательное и т.д. Сам неологизм лучше расшифровать как «субъективный абсолютизм», поскольку субъекталист – это тот, кто прямо или косвенно абсолютизирует нечто субъективное. Термин «субъективист» Мейясу не считает удачным из-за ассоциации с релятивизмом, который скорее понимается как позиция невозможности абсолютизации.
Мейясу даже прямо заявляет, что любой субъектализм – это вариант берклианства. Технически этот термин нужен для того, чтобы показать, что ряд виталистических и идеалистических позиций, несмотря на привычку противопоставлять некоторые из них, находятся в одной топике мысли. В субъекталисты, например, записываются разом Дидро, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр [3], Ницше и Делёз. Как пишет Мейясу, фундаментальное согласие этих мыслителей в том, что они уже не рассматривают возвращение к концепции а-субъективной реальности наподобие того, что француз видит в материализме эпикурейцев. Особенно Мейясу волнует субъективизация материи, которой, как ему видится, пытался противостоять марксизм в лице диалектического материализма, но неуспешно, поскольку «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина француз рассматривает как запоздалый и ничем не примечательный.
Субъектализм и корреляционизм – это взаимоисключающие позиции, даже несмотря на то, что субъекталист может пользоваться коррелятивными ходами мысли (как Беркли), а корреляционист субъекталистскими. Дело здесь в том, что корреляционист отрицает возможность доступа к абсолюту (а сильные корреляционисты и его существование), тогда как субъекталист наоборот – делает перманентно доступный аспект субъективности абсолютом. Слабой чертой такого деления оказывается то, что, вероятно, порой будет трудно отличить какой-нибудь виталистический субъектализм от слабого корреляционизма. Так или иначе, в этом аспекте Мейясу заметно меняет свои взгляды, ведь, если изначально постмодернисты всем скопом приписывались к корреляционистам, то теперь тот же Делёз рассматривается как субъекталист.
Важно заметить, что хотя все это связывается с берклианством, но субъектализм может существовать и под материалистической вывеской. Правда, для Мейясу это ненастоящий материализм, поскольку для него материализм связан с абсолютизацией несубъективного – «чистой и простой смерти». То бишь, как и было сказано ранее, материализм неорганической материи вызывает у француза меньше всего подозрений. Всякий материализм органической материи вплоть до радикальных крайностей, вроде гилозоизма (представления о том, что любая материя в каком-то смысле живая или одухотворенная) или панпсихизма, в оптике спекулятивного материализма оказывается под сильным подозрением в субъектализме. Подчеркну, что оговорки, сделанные с целью концептуальной аккуратности, здесь принадлежат мне, тогда как Мейясу категорично заявляет о том, что для него, либо материализм спекулятивен, либо это и не материализм вовсе.
Отдалившихся от спекулятивного материализма Хармана и Гранта, Мейясу признает субъекталистами, считая, что первый в рамках своей объектно-ориентированной онтологии лишь проецирует на вещи наше субъективное отношение к ним, а второй попросту является полу-делезианцем, полу-шелленгианцем. Скажем так, во внутренней логике спекулятивного реализма – это сильная нападка, поскольку тем самым Мейясу буквально приравнивает ООО Хармана к варианту берклианства, которое подразумевает и субъективизм, и определенный вариант аргумента круга. В ответ, а точнее в качестве превентивной критики, Харман считает обращение к математике у Мейясу философией доступа (то бишь, корреляционизмом). За этим, конечно же, кроется не только интеллектуальная конкуренция, но и содержательная разница теорий. Например, пока Мейясу настаивает на том, что упор на таксономию субъекта и объекта – это примитивное понимание проблемы корреляционизма, Харман считает этот момент одним из основных. Обращая внимания на эту таксономию, он разворачивает совсем иной теоретический проект, отходящий от вопросов необходимости и контингентности, но сближающийся с более модными вопросами антропоцентризма и загадочных объектов.
В остальном же субъектализм, как кажется, действительно неплохо очерчивает некоторую тенденцию в современной континентальной философии, где имеют место ходы вроде либидинального материализма Ланда, перспективизма Декастру, нечеловеческих акторов и т.д. Забавно, что аналитики типично обвиняют континенталов в субъективизме, тогда как Мейясу замечает более тонкий момент того, что сегодня дело скорее в абсолютизации субъективности и доведении её до объективных масштабов [4].
Будто этого мало, Мейясу дополнительно указывает, что считает идеи Хармана гиперфизикой. Если вы подумали о том, что это потерянное звено между метафизикой и шуточной патафизикой, то в каком-то смысле вы правы. Для Мейясу гиперфизика – это ненаучная физика, некий пространный дискурс о мире. Любая теория, которая предполагает реальность отличную от той, которая исследуется наукой. У гиперфизических теорий есть две явные характеристики – предположительность и объяснительный потенциал. Такие теории позволяют по-новому взглянуть на мир и заставляют нас задуматься о том, что реальность могла бы быть такой, хотя их спекулятивность (в обычном смысле слова, не как у Мейясу) очевидна [5].
Как ни странно, спекулятивный материализм не исключает гиперфизики, по крайней мере, пока она «знает своё место» и не претендует на истину, твердое правдоподобие и т.д. Вполне понятно, какие теории здесь имеются ввиду – это что-то вроде Хармана, Латура и Деланда, которые, как бы в обход и не заступая на территорию физики, предлагают свои объяснения материального мира. Естественно, никто из них бы не согласился на скромную роль гиперфизика, сводящуюся к тому, что они просто предлагают вариант видения мира, который по определению вторичен по отношению к науке, спекуляции и, по-видимому, даже серьезной онтологии.
Сам Мейясу не считает, что имеет на руках гиперфизическую теорию, но колеблется в этом вопросе (и не зря). Как и в случае с субъектализмом, гиперфизика неплохо ложится как раз на тех мыслителей, которые обычно отождествляют со спекулятивным реализмом. Наверное, в оба термина заложено даже больше критического материала, чем оно подразумевается целями сепарации Мейясу. Так, Мейясу явно намекает на то, что субъекталисты просто заблуждаются, а одной гиперфизике всегда можно противопоставить другую – и просто ввиду характера этих теорий альтернативы будут более-менее равновесными.
Беды с реализмом
Несомненно, может несколько удивить то, как слово «реализм» используют Мейясу и близкие ему по духу мыслители. Иногда это использование совпадает с аналитическим, которое сегодня стоит считать просто базовым пониманием, но некоторые различия бросаются в глаза. Так, обычно реализм понимается как конъюнкция двух тезисов – тезиса объективного существования (нечто существует объективно) и тезиса независимости от сознания (нечто существует независимо от сознания). Антиреализм же возникает там, где отрицается хотя бы один из этих тезисов. Например, конструктивисты могут считать, что конструкции существуют объективно, но зависимо от сознания – это что-то в духе создания миров по Гудмену. В пику этому континентальные социальные конструктивисты могут считать, что если нечто зависимо от сознания, то оно не является объективным и незыблемым, но именно так оно и существует – это что-то в духе критики традиционных бинарных оппозиций сторонниками Деррида. Несмотря на разницу и возможность большого спора, обе позиции – антиреалистические.
Что же мы видим у Мейясу? Прежде всего замечу, что теория Мейясу выглядит как модализованная (мета)онтология, поскольку вся она разворачивается в свете модального оператора контингентности и иногда претендует на то, чтобы быть выше, чем, допустим, та же онтология Хармана. Заметьте, что «модальный оператор», не являясь сущностью, отлично согласуется со спекулятивным духом размышлений Мейясу. Другой специфический момент состоит в том, что, на мой взгляд, главной дихотомией для Мейясу является абсолютизм и антиабсолютизм, а не материализм и идеализм, как у некоторых континентальных философов, или реализм и антиреализм, как у аналитиков. Напомню, что абсолютизм – это про существование и доступность абсолюта (для Мейясу исключительно спекулятивного, поскольку истины метафизики он считает иллюзорными). Чтобы не ухудшать позицию Мейясу, я предлагаю сразу же понять абсолютизм только как тезис существования (абсолют существует), тезис внешнего (абсолют существует как нечто внешнее по отношению к мышлению) и тезис независимости (абсолют существует как нечто независимое от мышления). Мейясу считает обязательным добавить сюда ещё и спекулятивный тезис доступа о том, что мышление может достигать абсолюта. Я это разделяю, поскольку и сам Мейясу считает, что возможен не-спекулятивный метафизический абсолютизм.
Уже тут мы можем заметить, что абсолютизм в таком изложении по большому счету является реализмом в аналитическом смысле. По крайней мере на бумаге. Отличает абсолютизм Мейясу лишь тезис доступа, без которого он посчитал бы аналогичную позицию корреляционистской. В то же самое время можно справедливо указать, что Мейясу соединяет онтологический и эпистемологический тезисы, которые не обязательно должны быть связанными. Так, Кант тогда бы понимался реалистом в аналитическом смысле и корреляционистом-абсолютистом по Мейясу.
Теперь же твист. Мейясу считает реализмом любую позицию, которая претендует на доступ к абсолютной реальности и даже напрямую пишет, что реализм – это любая спекулятивная позиция. В русскоязычной среде примерно такую позицию обозначают гносеологическим оптимизмом, который в случае Мейясу можно дополнить лишь тем, что это обязательно позиция доступа к абсолютной истине. То бишь реализм по Мейясу – это исключительно про эпистемологический тезис доступа. Отсюда следует, что для него словосочетание «спекулятивный реализм» звучит как тавтология, поскольку оно тождественно «спекулятивной спекуляции» или «реалистическому реализму». Поскольку есть легенда о том, что данный лейбл был в шутку придуман Брассье, то можно предположить, что он имел в виду реализм в аналитическом смысле. И тогда все встает на место, ведь Мейясу действительно спекулятивный реалист, где подразумевается реализм в аналитическом смысле, а спекуляция в смысле тезиса доступа.
Мейясу отдельно поясняет, что для него любой материализм является реализмом, когда не любой реализм является материалистическим. Чтобы окончательно вас запутать давайте разберемся и с этим. Действительно, не любой реализм в смысле Мейясу является материалистическим, поскольку тезис доступа сочетаем и с идеалистической позицией. Как и не любой реализм в аналитическом смысле является материалистическим, поскольку есть опции вроде платонического реализма (как мы видели, реализм просто нейтрален к вопросу о том, идеальна или материальна природа объективного и независимого от сознания мира). Иначе говоря, с этой частью позиции Мейясу всё ладно.
Но действительно ли любой материализм является реализмом в смысле Мейясу, то есть является спекулятивным? Материалисты явно с этим не согласятся, поэтому сойдемся на том, что реализм — это просто один из критериев материализма по Мейясу. Хотя в целом более старый материализм действительно шел сразу же с тезисом об (абсолютной) познаваемости материального мира. Что же касается реализма в аналитическом смысле, то не любой материализм является реалистическим. Допустим, те же марксистские настояния на творческом преобразовании материи вполне себе открывают доступ материалистическим конструктивизмам, которые предполагают ту или иную степень изменения объективных (или не очень) вещей субъектом, который тем самым может поставить эти вещи в зависимость от своего сознания.
Отдельно стоит сказать про неорганическую материю. Так, Мейясу рассматривает схему, где неорганическая материя является фундаментальной, органическая материя является деривативной (видом материи, который появляется со временем – в становлении), а некоторые виды органической материи создают субъективность, которая теперь уже дважды деривативна. Соответственно, хотя исследование и субъективности, и органической материи Мейясу может считать важными, в рамках его взглядов эти объекты исследования вторичны по отношению к более фундаментальной неорганической материи.
Что же мы имеем в итоге? Все пляски вокруг абсолюта примерно о том же, о чем и обычный обобщенный аналитический онтологический реализм. Мейясу в этом плане в первую очередь реалист абсолюта, а уже потом онтологический реалист, поскольку хоть объективная реальность неорганической материи для него не зависит от сознания, но она является менее фундаментальной, чем реальность контингености и гиперхаоса. Нюанс в том, что тогда не любой спекулятивный реалист в смысле Мейясу реалист в аналитическом смысле, но зато спекулятивный абсолютист, если он не трактует тезисы внешнего и независимого иначе, почти наверняка ещё и реалист в аналитическом смысле. Что интересно, поскольку Мейясу прямо высказывается о том, что мир полностью описывается физикой, то его в принципе можно записать в физикалисты. Как говорится, живите с этим.
Здесь были законы природы
К текущему моменту я не упомянул ещё две важные части мысли Мейясу – его спекулятивное решение проблемы Юма и роль математики во всём этом. Возможно, о Юме и гиперахаосе я подробнее расскажу в отдельной статье, сейчас же обойдемся небольшим экскурсом.
Мейясу считает необходимым онтологическое рассмотрение проблемы Юма, связанное с вопросом о том, как из того, что законы природы были стабильны в прошлом следует, что они будут таковыми же в будущем. Здесь он очерчивает несколько классических ответов: согласно Юму, логической необходимости здесь нет, и мы просто исходя из своего опыта считаем, что будущее будет развиваться понятным, знакомым и привычным для нас образом. Согласно Канту, если бы законы не были стабильными, то не было бы возможно какое-либо мышление. Согласно Лейбницу, любая случайность и нестабильность – это просто кажущееся, поскольку всегда есть более глобальный закон, который просто неизвестен нам на тот момент, когда нечто кажется нам из ряда вон выходящим. Мейясу считает, что все эти позиции содержат в себе элемент иррациональной веры в стабильность и необходимость законов природы.
Здесь неожиданно философия спекулятивного материализма проявляет себя атеистически (или не религиозно, если выбирать слово, которое предпочел бы сам Мейясу), поскольку подобную веру и соответствующий ей фидеизм предлагается заменить каким-либо рациональным решением. Справедливости ради, здесь мысли француза свойственна прямолинейность. Он отказывается от опоры на необходимость законов природы, считая рациональным логический вывод Юма о том, что из того, что в момент времени t1 законы природы имеют форму Х, не означает, что они будут иметь такую же форму в момент времени t2. Отсюда он приходит к тому, что единственно необходимой является контингентность любых законов – не просто возникновение их из ситуации хаоса мироздания, а из ситуации того, что Мейясу называет гиперхаосом (или, как он хотел его назвать «сюрхаос»). Посредством гиперхаоса он указывает на достаточно простую мысль о том, что даже если гипотеза о глобальной случайности мироздания истинна, то это не значит, что она будет для нас заметна, ведь глобальная случайность подразумевает в том числе случайное возникновение стабильных законов природы. Абсолютная случайность (гиперхаос) включает в себя возможность абсолютного порядка.
Пока мы не ушли слишком далеко от упоминания о нерелигиозности философии Мейясу, замечу, что у него есть, если так можно сказать, своеобразная философия религии. Тематически она представляет собой рассуждения о дилемме призрака, бессмертии и возможном возникновении Бога, который самим автором связываются с его рецепцией Юма и взглядами на материализм. Как мне видится, это все-таки отдельная область интересов француза, которую он по понятным причинам сочетает со своей онтологией, но необходимости в этом сочетании нет, а поэтому я и не рассматриваю её здесь подробно [6].
Лично мне тематика онтологических рассуждений Мейясу о случайности и необходимости кажется крайней похожей на то, что чуть позже аналитический философ Тимоти Уильямсон популяризует как дискуссию о несесситизме (necessitism) и контингентизме (contingentism). Это две онтологически позиции, где несесситизм представляет собой взгляд о том, что всё, что существует – существует с необходимостью, а контингентизм представляет обратную точку зрения о том, что всё, что существует – существует по случайности.
При таком рассмотрении теория Мейясу выглядит необычно, но и находчиво, поскольку у француза де-факто имеется нечто вроде гибридной позиции. С одной стороны, поскольку Мейясу считает законы природы контингентными, то в этом аспекте он выглядит как образцовый контингентист. Он напрямую высказывает позицию о том, что все, что вы можете прямо сейчас увидеть вокруг себя, существует без необходимости в глобальном смысле. Более того, доводы Юма понимаются как запрет на постулирование необходимости исключительно из опыта или опытных рассуждений. С другой же стороны, сама контингентность или гиперхаос как время со становлением и без – являются единственным, что существует с необходимостью, абсолютно, а не фактично. Исходя из этого, я утверждаю, что Мейясу является несесситистом контингентности – контингентность выступает единственным, что существует необходимо, тогда как в свете этого факта всё остальное существует по космической случайности. Можно сказать, что по Мейясу абсолютно истинно, что в обычной жизни мы сталкиваемся с фактичностью вещей, и так как именно эта фактичность абсолютна, то она может быть поддержана лишь гиперхаосом, который способен порождать как устойчивые и упорядоченные миры, так и хаос в обычном смысле постоянной неустойчивости и нестабильности [7].
Загробный шепот математизации
Несмотря на то, что Мейясу стоит на позиции о том, что мышление может достигать абсолютных истин, одновременно с этим он подозревает любую субъективность в коррупции наших знаний об объективном. Возможно, в том числе из-за того, что мышление неразрывно связано с субъективностью, Мейясу в отличие от своих коллег считал корреляционистов сильной угрозой, которую можно разрушить лишь изнутри, приняв их первичный запрет на мышление бытия самого по себе. Отсюда можно дополнительно охарактеризовать позицию Мейясу и как крайне антисубъективистскую, что одновременно связывает его с континентальным трендом внимания к нечеловеческому и разъединяет, поскольку «нечеловеческое» как простая инверсия человеческого могла бы рассматриваться Мейясу как незатейливый реверсивный субъектализм.
Окидывая взглядом общую онтологическую позицию Мейясу, может показаться, что в плане теории познания он близок к скептицизму, поскольку всевозможных запретов для мышления здесь куда больше, чем каких-либо разрешений. Определенная привилегия в такой ситуации появляется у математики, которая для Мейясу оказывается способом познания если и не мира в целом, то хотя бы некоторых его характеристик, которые точно имеют место и до нас, и после нас, и вообще без нас. Таким образом, для француза математика всегда говорит о вещи-в-себе – о той части вещи, которая точно не является чем-то, что мы лишь приписываем ей. Например, одно дело значение децибел, а другое дело – наше субъективное впечатление о нём, как о тихом или громком звуке.
Исходя из того, что математика понимается как дисциплина, которая де-субъективирует наше познание и мышление, хотя и практикуется субъектами, то для Мейясу она приобретает смертельное звучание. Для него математика описывает реальность нашей смерти – показывает то, что остаётся, когда нас больше нет в этом мире. На той стороне математики оказывается недоступный нам в ощущениях мир без мышления, сознания, его продуктов и жизни в целом. Мейясу даже не стесняясь называет такой мир загробным, что неудивительно, ведь именно метафора смерти в данном случае неплохо обозначает какого уровня не-субъективности наших познаний о мире ожидает теоретик, и насколько независимой от человека ему кажется математика.
Как ни странно, но Мейясу очень красочно подаёт просто вариант реалистического не-конструктивистского взгляда на математику и логику, согласно которому логические и математические законы по своей природе таковы, что не изобретаются, а открываются, ввиду чего они существуют и до того, как кто-либо их откроет, и будут существовать, если человечество исчезнет. Мало? Тогда напомню, что среди аналитических моральных философов сильны воззрения о том, что аналогичной природой обладают и принципы истинных, объективных этик.
Кроме того, Мейясу считает, что математика основывается на иммунных к деконструкции бессмысленных или лишенных смысла знаках. Звучит континентально? Тогда дадим слово Солу Крипке: «Даже Бог не мог бы сказать, что кто-то подразумевает под ‘+’!». Речь здесь о парадоксе следования правилу, который описал Витгенштейн в «Философских исследованиях». Сам по себе парадокс чем-то напоминает проблему Юма и состоит в вопросе о том, как из конечного набора примеров может возникнуть правило, способное рассматривать в качестве правильных и неправильных действия, не входящие в изначальный набор кейсов. Так, согласно скептическому взгляду способность правила направлять нас является иллюзией. Отсюда может следовать даже нигилистический взгляд о том, что правил вообще не существует. Как мне видится, в свете специфичных онтологических взглядов Мейясу для него отсутствия смысла в «+» является хорошей новостью, поскольку это означает, что «+» точно не заражен корреляцией, не подчинен человеческому мышлению. Здесь же вновь заметно, что взгляды и дихотомии аналитиков достаточно однозначны, а решения Мейясу в этих же рамках диалектичны.
Что любопытно, через Мейясу можно интересно взглянуть на некоторых философов, которые кажутся эталонами серьезной академичности и испепеляющей сухости. Например, Поппер может быть понят как спекулятивный мыслитель абсолюта. По крайней мере в таком духе выдержан ключевой для его теории объективного знания пример о книге, которая содержит знания даже тогда, когда никаких иных его носителей нет. Для Поппера знание принадлежит не второму миру психических состояний или первому миру материальности, а третьему миру чистого семантического содержания. В отличии от платонического мира идей, Поппер делает более искусное утверждение, нежели просто утверждение о том, что идеи существуют сами по себе где-то на другом слое онтологии. Третий мир представляет собой некоторые объективные структуры, имеющие потенциал быть познанными. В этом смысле мне кажется, что третий мир можно даже сжать до первого, поскольку нам принципиально, что осталась именно материальная книга, написанная таким образом, что её можно понять, а такой потенциал в свою очередь можно, грубо говоря, свести к не-случайному расположению чернил на бумаге.
Прояснить всё это, как и связь с мыслью Мейясу, может пример, приводимый сами же Поппером. Он указывает, что биологи занимаются не только поведением животных, но и некоторыми неживыми структурами, вроде паутины, гнезд, плотин, троп и так далее. Причем, изучению поддаются, как и акты производства таких структур (это аналогия со вторым миром), так и эти структуры сами по себе в связи с их химическими и физическими свойствами, эволюционными изменениями (здесь проводится аналогия этой структуры со знанием, обитающим в третьем мире). Поэтому, если представить апокалиптический сценарий, где человечество давно не существует, а на планету прилетела инопланетная раса исследователей, то оставшиеся книги, дома и философские диспуты могут исследоваться ими примерно в том же смысле, в котором сегодня биологами исследуется паутина паука. Отсюда и получается, что при таком рассмотрении для Поппера третий мир и наполняющие его вещи оказываются формой абсолюта, как в смысле чистого содержания, так и в смысле неорганической материи.
Однако, несмотря на такие любопытные опции, мортальная математика Мейясу не всегда вяжется с позитивной программой, которую он хочет ей приписать. В известном смысле для Мейясу единственный критерий подлинно реального – это святая математизация, которая высвечивает, что в объекте существует до и после нас. Все иные критерии в лучшем случае дают той или иной степени удачности описание фактичным и фактическим вещам имеющегося мира. Проблема в том, что сам термин «математизация» работает как «магическая ткань» по Деннету – то есть как понятие, которое сильно упрощает ответы на вопросы, по сути не давая какого-то понятного решения. Грубо говоря, вместо того, чтобы прямо отвечать на вопрос о том, как нам надежно познавать мир, Мейясу просто говорит: «математизация» и в рамках его спекулятивного материализма это уже является достаточным ответом. Неясно, как должна работать эта математизация – означает ли это просто приоритет количественного анализа или необходимость философских исхитрений, вроде тех, что делал сам Мейясу в «Числе и сирене»? На мой взгляд, вся философия математики, прикручиваемая Мейясу к его онтологии либо факультативна (если мы уберём её, то ничего существенно не изменится в его теории), либо проблематична (чего только стоит его желание и согласится с Бадью в том, что математика – это онтология, и вместе с этим не прослыть неопифагорейцем).
После заключения
Таковы были жизнь и страдания господина Мейясу в эпоху спекулятивного реализма – эпоху друзей и врагов спекулятивной философии, рассуждающих о том, что завершается, когда исчезают символы нашего присутствия здесь. Как ни крути, но концептуальный выбор Мейясу – встать на сторону неорганической материи, контингентности и несущностного абсолюта фактичности – прямо и косвенно оказал существенное влияние на континентальную философию сегодня со всей её рационализованной нигилистичностью. Возможно, только такое влияние и стоит называть по-настоящему существенным, когда есть не прямая генеалогическая интеллектуальная связь в духе Коллинза, а наследование идеям и концептуальным решениями несмотря на явный разрыв между тем, кто оказывает и на кого оказывается влияние.
Если позволите этот историографический штамп об основном вопросе, то Юджин Такер, популяризовавший словосочетание «мир без нас», дал неплохой вариант, чтобы емко обозначить те волнения, которые наиболее актуальны для философской линии крови Мейясу. Каков мир без нас? Действительно ли он известен нам, если «мы всегда были здесь»? Означает ли присутствие здесь невозможность знать, что происходит в наше отсутствие?
Кого-то подобные вопросы по понятным причинам могут навести на мистический лад, но здесь я согласен с Мейясу, что дело скорее в том, чтобы посредством философии создать повод для удивления. И не за счет сокрытия фактов и эстетической имитации, а за счет полной открытости серьезной мысли простым вопросам. К слову, наверно, единственный акт юмора в «После конечности» — это упоминаемая поговорка о том, что у любой глупости есть философ, который её отстаивал, с последующим указанием на то, что одну такую незащищенную глупость Мейясу всё-таки нашел. Показательно, что эта легкая ирония касается не корреляционистов или метафизиков, а непосредственно спекулятивной – наиболее серьезной для автора – позиции в философии.
Так что философия не просто начинается с удивления, а являет собой один большой проект по нахождению, испытанию на прочность и дезинтеграции любой возможной формы удивления. Тем более удивительно, что мир, в котором никакое удивление невозможно, поскольку просто некому, – становится способом заново актуализировать проект удивления, которой то и дело оказывается в тени надежд на проект философского разрешения проблем.
[1] Приведу один частный пример. В интервью с Флорианом Геккером Мейясу заявил, что весь проект был изложен уже в первой главе «После конечности», а заключается проект в обещании «вернуться к физике». Окей, там действительно есть про физику, но, если проект Мейясу заключался буквально в этом, то тогда, судя по всему, его не понял вообще никто из последователей, либо Квентин лукавит. Если же имеется ввиду «весь проект» в общем смысле, включая в себя в том числе опровержение корреляционизма, содержащееся в дальнейшем тексте «После конечности», то тогда возникает загвоздка. В первой главе речь идет об архиископаемом и доисторическом, а во «Времени без становления» (докладе 2008-го) Мейясу утверждает, что аргумент архиископаемого лишь иллюстрирует, но не опровергает проблему корреляционизма. В «Имманентности потустороннего Мира» основным мотивом «После конечности» Мейясу называет восстановление спекулятивной философии, как это в общем-то и было понято многими последователя его мысли. И всё это не говоря о том, что многие вещи попросту сходу не изложены в первой главе. [2] Возможно, именно эта модификация является результатом влияния на Мейясу аналитической философии. Это исключительно маловероятное предположение, но у француза есть статья, где он вспоминает о Нельсоне Гудмене в связи с проблемой Юма. Хотя и не в статье про Юма, но в своей самой известной книге Гудмен выступает за схожую вариацию anything goes, в рамках которой предполагает право любой дисциплины на конструирование своих миров без приоритета для какой-либо из них (и вновь, и поэт, и ученый могут нам сказать что-то важное о мире). Как у Мейясу, право даётся со схожей оговоркой Гудмена в духе того, что «не все миры правильны, а истины одного мира не обязаны признаваться в другом». [3] Что интересно, в пятом параграфе «Мира как воли и представления» у Шопенгауэра обнаруживаются рассуждения, которые можно справедливо назвать критикой Фихте за субъектализм. [4] Аналогичные ходы, вроде того же панпсихизма, имеют место и в изысканиях некоторых аналитиков, которые могли бы попробовать сослаться на то, что их интересует скорее прото-субъективность, но в этом аспекте Мейясу явно бы стоял до последнего, поскольку в конечном счете для него проблема субъективности может быть редуцирована и заменена проблематизацией органической материи, которая и явялется истоком любого вида феноменальности. [5] Полагаю, что гипотеза симуляции в духе «Матрицы» может претендовать на роль базового примера гиперфизики, поскольку такие глобальные скептические сценарии обычно подкрепляются не позитивными аргументами за них, а критикой когнитивных возможностей субъекта; собственно, сама же симуляция оказывается удобным способом для объяснения того, почему вам кажется, что с миром что-то не так. [6] Грубо говоря, Мейясу просто пробует показать свой спек-материализм и спекулятивное решение (читай, переопределение) проблемы Юма в деле, применяя все это для разрешения некоторых внешних по отношению к его теории вопросов. Получается ли? Мне кажется, что не совсем, поскольку та же дилемма призрака просто содержит неудачные посылки, вроде представления об абсурдности жизни без Бога или мотивации атеиста, состоящей в том, что религия обещает Бога, вселяющего страх. И это уже не говоря о том, что по отношению к религиозности Мейясу вновь применяет свой излюбленный прием переопределения понятий под себя, отчего для него религиозная позиция сводится к утверждению о существовании загробной жизни и персонифицированного Бога, что очевидно является постыдно узкой дефиницией. [7] Что касается гибридных позиций Мейясу, то его взгляды также интересно рассмотреть в контексте дихотомии моно- и полионтологизма (всё есть единое и всё есть многое). Так, аналитический реализм зачастую предстает в виде типичной полионтологии. У Мейясу же мы видим контингеность как нечто очень похожее на единый исток онтологии, но из него он выводит очень широкую онтологию многого на уровне абсолюта неживой материи.
