![]()
Продолжение вирусологического ликбеза от Ивана Белоногова в котором мы увидим, как вместе с эпидемиологией родилась биополитика и дисциплинарное общество. О том, какие социальные практики и открытия принесла чума, почему модель «таблицы» становится идеалом властвования и как это всё вновь помешало возникновению концепта вируса.
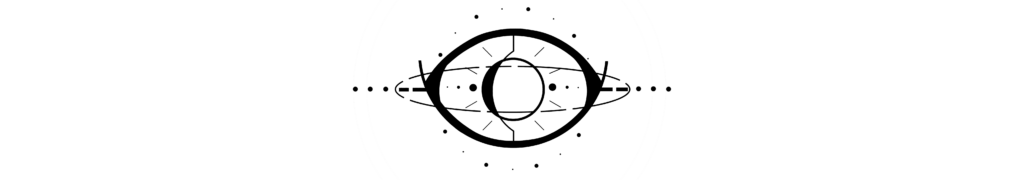
Прежде, чем продолжить наш вирусологический ликбез, кратко напомним, что мы выяснили в прошлой части. Эпидемиология и микробиология зародились в виде двух концептов — «миазмов» и «контагий», в IV веке до н.э. и в X нашей эры, соответственно. Но зарождение идеи — это даже не полдела. Ей ещё предстоит долгий путь до того, чтобы стать частью эпистемы.
В средние века «миазмы» и «контагии» сливаются в символе «демон», будучи образами демонической физиологии: «демон» как то, что, существует как стадо, рой, и одновременно, как некий дух. И, к тому же, вызывает у людей одержимость им. Будучи в таком статусе, контагии и миазмы становятся тем, чему не стоит уделять излишнее внимание.
В XVI-XVIII веках пути этих концептов вновь расходятся, «миазмы» становятся частью эпистемы, а вспышки распространения гипотезы «контагиев» локальны, быстро угасают, а их носителей изолируют стеной молчания: Антонио Левенгук, со своими микроскопами, оказывается на ярмарке; Игнац Земмельвейс, с его предложением мыть руки перед родовспоможением, в психиатрической больнице; Джон Сноу проводит полноценный статистический анализ вспышки холеры, составив карту заражения, но этого оказывается недостаточно, чтобы изменить эпистему…
Итак — XVIII век. Основная гипотеза о причинах эпидемий по-прежнему «миазматическая» — дурной воздух привязанный к территориям. Но что в этой гипотезе такого, что делает её столь стойкой ко всякой критике?
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно обратиться к двум вещам. Истории эпидемиологии, превратившей медицину в здравоохранение. И к особенностям европейской эпистемы XVII-XVIII веков.
Первый случай слияния медицины и политики в Западном дискурсе произошел при эпидемии чумы в Венеции, когда местные власти назначали трёх человек исследовать способы сохранения здоровья горожан и избежания заражения воздуха миазмами [1]. В это же время, примерно в 1374 году, возникает понятие «карантина», которое означает время, состоящее из сорока дней. Quaranta giorni — буквально сорок дней по-итальянски. Тогда же понятие закрепляется законодательно.
И это не единственное институциональное следствие чумы. Предположительно, тогда же возникают и паспорта. Или же, как их называли поначалу: «чумные паспорта» [2]. Они становится и пропуском, дающим проход или его закрывающим, и способом регистрации и кодирования траекторий индивидов. И конечно, здравоохранительной мерой.
Таким образом, именно через эпидемиологию здравоохранение становится важнейшим аспектом государственного управления. Медицина постепенно превращается из совокупности частных практик отдельных врачей в что-то куда более структурированное и близкое к тому, какой мы её знаем сейчас. Эпидемиология же выступает для государства окном в медицину, рама которого задаёт границы необходимых знаний. У общества есть много проблем, но не обо всём нужно знать правителю. Эпидемия — чумы или холеры — это как раз таки то, о чём знать необходимо, ведь это просто конец света, когда наносимый бедствием урон исчисляется опустевшими городами.
Тем не менее, пока ещё можно отметить только возникновения новых мер — регистрации и перемещения индивидов, возникновение карантина и паспортов. Мер не только медицинских, но и управленческих. Это эмпирика и практика, но ещё не наука.
Как сфера знаний эпидемиология возникает в XVII-XVIII веках и вместе с ней рождается дисциплинарное общество. Мишель Фуко посвятил этому множество исследовательских усилий, что вылилось в «Рождение клиники» и «Надзирать и наказывать», а также курсы лекций: «Ненормальные», «Рождение биополитики», «Нужно защищать общество». Чтобы не пересказывать работы французского философа целиком, очертим несколько основных моментов.
В «Словах и Вещах» Фуко показывает важную особенность средневекового знания. Оно строилось по модели «сумм». Иными словами, исследователь просто компоновал все легенды, притчи, истории, суеверия и замечания об описываемом им предмете в единый рассказ. Чем полнее был набор таких историй и «фактов», тем более исчерпывающем считалось исследование. В качестве примера можно привести наиболее известные средневековые суммы — «Сумма теологии» Фомы Аквинского и «Сумма логики» Уильяма Оккама. Можно также вспомнить «Сумму музыки» неизвестного автора или «Сумму арифметики, геометрии, отношений и пропорций» Луки Пачоли.

Со временем такая модель уходит на второй план и знание начинает строится по иным принципам. Чтобы прояснить их, стоит начать с момента установления Вестфальского мира — двух мирных соглашений, подписанных в епископствах Мюнстер и Оснабрюк в 1648 году, 15 мая и 24 октября. Европейским государствам приходится признать друг друга, установить границы, прекратить военные действия по отношению друг другу. Они оказываются в ситуации, где они окружены другими государствами, с которыми при этом не могут конкурировать в военной мощи. Но сама конкуренция не исчезает — она становится экономической. И потому возникает необходимость в повышении экономической эффективности по всем показателям.
Для этого всё начинают подсчитывать и сравнивать между собой. Так, вместо «сумм» основой эпистемы того времени становится модель «таблицы», которая представляет собой и процедуру познания, и технику власти [3]. С одной стороны возникают зоологические и ботанические пространства классификации видов, экономические таблицы, реестры войск и больных. С другой — пространства школьных классов, казарм и больниц, поделенные на ряды и отгороженные от остального мира. В обоих случаях таблица выступает не только способом организации множества, но и инструментом для взаимодействия с ним. И в конечном счёте, как предполагается, обуздания множества через классификацию и отслеживание — своеобразного сокращения до контролируемых частей, на которые можно влиять, зная общую картину. Тогда же на смену «суммам» приходят энциклопедии Нового Времени. Такие как «Энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремёсел» под редакцией Дени Дидро, состоящая из 35 томов, в создании которой участвовали многие известные философы (Гельвеций, Руссо, Вольтер и многие другие), позже названные «французскими энциклопедистами».
Основная задача таких табличных пространств — исчисление, измерение и категоризация индивидов для того, чтобы выжать из них максимум пользы. Но также и для того, чтобы получить о них некое знание. Поскольку новым предметом особого интереса государства становится «население», то именно его считают, подводят под категории и изучают как массу. И для того, чтобы эту массу упорядочить и проанализировать становятся необходимо создать таблицеподобные пространства на своей территории. Школьный класс, больница, армия, психлечебница и так далее — это таблицы, которые актуализировались в самой архитектуре зданий, рядах залов и столбцах коридоров.

Несомненно, сейчас таблицы используются по-прежнему, но уже в совсем другом статусе. Сейчас это просто способ визуализации данных наряду с другими (диаграммы, графики и т.п.). Известно, что у него есть свои недостатки — например, гибридные-объекты, которые относятся сразу к нескольким категориям. Но в те времена, когда таблица была моделью знания, гибридные объекты просто игнорировались. И наоборот, если оставались незаполненные клетки в таблице, то считалось, что соответствующий им объект просто не найден.
После Великой французской революции на смену средневековой больнице — места, где лечение понималось скорее как очищение (пост, он же диета, травяные лекарства, молитва) — приходит клиника. Место, где врачи могут лечить и изучать больных. Дело в том, что госпиталь в Средние века — это пространство временного пребывания, в котором ключевая задача состоит не в излечении, а в облегчении состояния (чтобы человек вернулся домой).
Новый тип клиники — гораздо больше заинтересован в самих болезнях, чем в людях. Как указывает Дмитрий Михель: «Реформаторы предложили обществу своего рода социальный контракт: богачи вкладывали средства в больницы, надеясь вследствие этого приобрести возможность лечиться у более квалифицированных докторов; бедняки получали в больницах бесплатную помощь, предоставляя взамен свои тела, чтобы их могли изучать студенты; врачи приобрели возможность работать с неограниченным количеством клинических случаев» [4]. Клиника становится местом, в котором множество частных случаев заболеваний превращается, под взором врача и посредством ведения записей, в болезни.
Таким образом появляются два важных нововведения, соответствующие двум уровням заболевания. На макроуровне возникают множества, как результат категоризации («население», «девианты» и т.п.). На микроуровне происходит небывалое — у отдельного индивида возникает записанная история. И хотя это только лишь история болезни, но даже это уже революция, ведь до того история писалась только о деяниях великих — к примеру, королей или полководцев. Отметим этот момент на будущее.
Таковы необходимые компоненты того, что Мишель Фуко назвал «биополитикой». Понятие «населения», которое подсчитывают на двух уровнях — массовом (статистика) и индивидуальном (экзаменация). Установка на достижение максимальной рабочей эффективности населения посредством заботы о его здоровье (здравоохранение) и вмешательства в жизнедеятельность (контроль рождаемости, пропаганда определённого образа жизни, муштра).
Как можно догадаться из вышесказанного, основное оружие, которое государство может противопоставить эпидемии, вносящей хаос в планы и расчеты — это порядок. Порядок «таблицы». Эпидемия того времени — это сущность, возникающая из статистических подсчетов — общность времени и территории, схожие симптомы [5]. Для тех, кто получает отчет об эпидемии, она — это цифры на бумаге, число зарегистрированных случаев и сводка по некому городу. Что-то вносит в таблицы хаос, а значит на него надо ответить усилением порядка.
Анализируя положение о мерах, принимаемых в случае угрозы эпидемии, Фуко замечает, что это очень напоминает идеал такой «табличной» власти — пространственное распределение, закрытие города, разделение города на четкие кварталы, во главу которых ставятся интенданты [6]. Города, превращенные в живые «таблицы» — разве это не мечта о полном контроле? Но мечта, осуществлённая только на время эпидемии. Ведь в обычное время она невозможна. В отличии от больниц и школ, обещающих взамен повиновения здоровье и образование, городу-таблице нечего предложить горожанам взамен. В отличии от казарм и тюрем, в безопасное время нельзя навязать этот контроль насильно, аргументируя это долгом и необходимостью защитить общество от преступника и перевоспитать его. Только эпидемия ставит целые города в такие ситуации, когда они превращаются в территории жесткой дисциплины во имя здоровья горожан и безопасности остальных граждан страны. И только во время эпидемии горожане, которым некуда бежать, готовы пожертвовать личным благом во имя блага общественного. Принимая, конечно, во внимание, что именно карантин отнимает у них возможность перемещения.
При этом, что интересно, в тоже время возникает и распространяется идея вакцинации. Видя, что люди переболевшие оспой не только выздоравливают, но и не заражаются впоследствии, английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году проводит эксперимент. Он прививает коровью оспу, которая не так опасна для человека, восьмилетнему сыну садовника, а после демонстрирует, что ребенок оказывается невосприимчив и к заражению «человеческой» оспой. Таким образом Дженнер доказывает пользу вакцинации и та становится на вооружение государства. При этом вопрос о том, как и почему это происходит, не так важен. Как неважно и то, что смертность от вакцинации хоть и невелика, но есть — главное, что вакцинация вносит положительные изменения в статистику.
С самого своего возникновения эпидемиология — это наука не о заболеваниях, но о заболеваемости (как статистике) и эпидемии (как территориальном феномене). Именно в таком виде она приносит государству свои плоды. Так как полностью соответствует его политике: регистрации, исчислению и повышению показателей — направленных не только на отдельного человека, но на общество в целом. Возможности «увидеть» заражение нет, да и нет причин его искать — сначала оно должно возникнуть как теория. А эпидемия, когда она будет статистически установлена, сразу дана как территориальный феномен. Как готовая сущность, идеально укладывающаяся в миазматическую гипотезу. Просто «дурной воздух» возник на время на какой-то территории. Эпидемия с такой точки зрения — это скорее стихийное бедствие, причина которому случай.
К этой картине осталось добавить лишь последний штрих — теорию самозарождения жизни [7]. Её сторонники утверждали, например, что черви сами зарождаются в почве, а личинки — в мертвом теле. И пока эта теория не опровергнута, любые микроорганизмы, даже будь они предъявлены в микроскоп, будут считаться следствием болезни, а не её причиной. Любые «контагии» порождались «миазмами».

И для того, чтобы вывести «контагии» из этой теоретической блокады, «в 1859 году Пастер показал, что стерильный питательный бульон в герметичной колбе не может самопроизвольно генерировать жизнь: микробные колонии начали расти, только когда герметичность была нарушена и в колбу попал содержащий микроорганизмы воздух, — этот эксперимент дал нам пробную теорию болезней» [8]. Прошло всего 4 года с момента поражения Джона Сноу, но правильная тактика, выверенная битва на новом полем — на поле образов и убеждений массового сознания — вот новое оружие, которым Луи Пастер и контагиозная гипотеза наносят ответный удар.
Заключение: от таблицы к вампиризму
Таким образом, еще в XIV веке эпидемия порождает особые социальные практики, основанные на регистрации индивидов, их прикреплению к местам — паспорта и карантин. И когда, после заключения Вестфальского мира, приходит время биополитики, с её установкой на исследование и расчет нового социального образования — «населения», именно карантин становится основной рабочей моделью, научным и политическим идеалом: распределить индивидов по рядам и столбцам, так, чтобы скрытые параметры стали явлены невооруженному глазу, чтобы потом выжать из них максимум пользы.
Поэтому эпидемиология становится политической наукой par excellence, а карантин — идеалом общественного устройства. Ведь населению нужно предъявить хоть какие-то причины, по которым они с необходимостью должны принять эти правила игры. Таких причин две — здоровье и защита общества. Под их эгидой порядок таблицы и дисциплины устанавливается в школах, больницах, казармах и тюрьмах. Так возникает то, что Фуко называет дисциплинарными обществами — обществами локальных пространств, где происходит насаждение порядка власти и муштра индивидов. Но между этими пространствами все еще остаются неподконтрольные области, где индивид недосягаем для контроля. И лишь эпидемия развязывает руки, открывая для властных техник целые города и страны. Потому карантин — это дисциплинарное общество as is, без покровов и сдержек.
Но под всем эти упорядоченным и явленным оку миром, прячутся невидимые существа, ждущие своего выхода на сцену. Точнее, своего появления на экранах. Ждущие прихода технологичного общества — общества медиа. Общества вампиров-продюсеров биофилософского хоррора под названием «вирус»…
Примечания:
[1] Питер Акройд, «Венеция. Прекрасный город». Стр. 434: «Весной 1348 года венецианские власти, напуганные массовыми смертями горожан, назначили трех человек, чтобы «тщательно рассмотреть все возможные способы сохранить здоровье горожан и избежать заражения воздуха». Это первый в истории Европы случай в области здравоохранения». [2] Больше о влиянии эпидемий на политику можно узнать из серии видео-лекций Федора Лисицина: «Эпидемии, изменившие ход истории». [3] Фуко, «Надзирать и наказывать». Стр. 216-217: «Создание “таблиц” — одна из огромных проблем научной, политической и экономической технологии XVIII века <…> одновременно и техника власти, и процедура познания. Требуется организовать множество, и обеспечить себя инструментом для его отслеживания и обуздания. Требуется навязать ему “порядок”». [4] Дмитрий Михель, «Мишель Фуко и западная медицина». [5] Мишель Фуко, «Рождение клиники». Стр. 40: «Нет различия в природе или типе между индивидуальными болезнями и эпидемическими феноменами, достаточно того, что спорадическое заболевание воспроизводится одновременно в большом количестве случаев, чтобы это стало эпидемией» — такова идея «Конституции» Сиденхема, вышедшей в 1736 году. Не болезнь определяет эпидемию, но «ядро обстоятельств. Основание эпидемии — это не чума или катар; это Марсель в 1721-м, Бисетр — в 1780-м, Руан — в 1769 году». [6] Мишель Фуко, «Надзирать и наказывать». Стр. 286-287: «Разбитое на квадраты, неподвижное, застывшее пространство» —«каждый заперт в своей клетке, каждый — у своего окна, откликается на своё имя и показывается, когда этого требуют». [7] Теория самозарождения жизни возникла еще в древние века. Её приверженцами были и Фалес, и Эмпедокл, и Платон. По их мнению, жизнь могла возникнуть из неживой природы — например, из речного ила (Эмпедокл), или в результате вселения в неживую природу души (Платон, Аристотель) В средние века эта идея трансформировалась, с тем лишь дополнением, что это происходило по воле Бога (Августин Блаженный). Наиболее ярким и знаменитым примером является мнение Яна Баптиста ван Гельмонта, что мыши могут зародиться в грязном белье, при добавлении туда пшеницы.Конечно, в настоящее время теория самозарождения жизни всё еще существует и разрабатывается. Но уже на совершенно других — эволюционно-химических — основаниях.
[8] Теодор Реймонд Найт. «Смотри, что у тебя внутри». Стр. 91.