![]()
Алексей Кардаш о двух видах любви к философии.
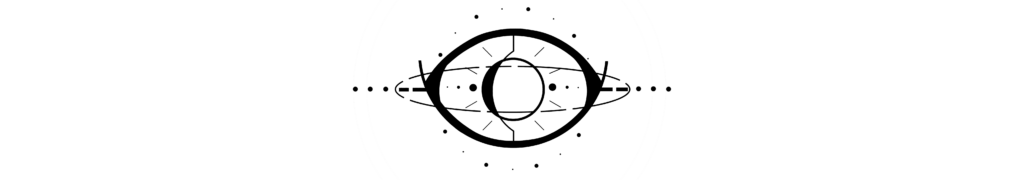
Есть люди, которые рождаются в философии, а есть те, кто в неё входят. Первые знают несколько языков, читают в оригинале и выбирают для своего поклонения что-нибудь почтенное, вроде платонизма, или с упоением занимаются техническими нюансами любви к мудрости. Вторые почти случайно открывают для себя странноватое интеллектуальное соревнование и включаются в него прямиком из окопа.
Отношения первых с философией — это отношение гордого воспитанника, желающего обеспечить своему родителю прекрасное будущее по образам его лучших лет. Крайнее проявление такой любви приводит сынов и дочерей философии к философологии — марионеточной копии «мамы», в которой, как в янтаре, застыли лучшие из её дней. Остаётся лишь самозабвенно менять наряды: аристотелизм, эллинизм, схоластика, немецкая классика…
Отношение вторых — это отношение любовника-авантюриста, желающего благодаря подвернувшемуся влечению к мудрости реализовать некие вторичные амбиции. Крайнее проявление такой любви приводит к филодоксии — развратной сестре философии, которая не стесняется и не страшится игры и перверсий, требующихся для удовлетворения самых разнообразных интеллектуальных желаний. Остаётся лишь самозабвенно испытывать все из предложенных практик: от ницшеанства до постмодернизма.
Рождённых в философии легко узнать по их трепетной убеждённости в самодостаточности и даже идеальности родителя. Для них не существует нового — в любом концепте они узнают что-то, что уже было сказано Платоном, Аристотелем или хотя бы их первыми комментаторами. Они убеждены в том, что прыть в философском творчестве — это скорее от недостатка понимания философии. Буквально от незнания. Понимание этого отягощает, ведь сами-то рождённые если и не знают всё, то настойчиво стремятся. С их точки зрения в большинстве своём множат сущности те, кому не хватило ума разобраться со старыми, а поэтому в историческом масштабе им очевиден регресс. От первых фундаментальных авторов через уважаемых комментаторов и продолжателей к фрагментированным умам, всё дальше углубляющимся в шизофреническое пустословие.
И у этой позиции есть свои психологические основания. Рождённые в философии в юношеском возрасте изучают то, на что вошедшие скорее всего наткнутся на пороге взрослой жизни. Существует принципиальная разница между аристократичным знатоком логики 18-го века, который ещё в детстве проштудировал всю классику и тем, кто никогда не читал Аристотеля. Тем, кто рождён в философии доступна красота её глубокого познания — особая эстетика причастности к эссенции того, что остальных восхищает или отвращает даже на поверхностном уровне.
Тем не менее, прекрасное опасно. Тем самым, что в нём уже всё хорошо. Массивные изменения или дополнения сулят лишь перспективой всё испортить без возможности исправить. Поэтому рождённый в философии, зачастую словно бы стоит на страже — он напрямую выражает то, что ему нужно защитить хрупкую красоту философии от очередного Делёза, оградить её от тех, кого лишь влечёт к мудрости.
Вошедшие же в философию действительно часто изначально ведомы только влечением. Они открывают для себя не мир, но миры. Многоликую сеть идей, из которой, как из арсенала, что-то можно брать себе на вооружение, а что-то отправлять прямиком на свалку, если оно покрылось ржавчиной или показалось ненужным. В конечном счёте, не приобретая особых привязанностей к какому-либо из орудий, вошедшие в философию пытаются сделать своё.
Именно поэтому их так легко распознать. Видя, сколь много философий уже существует, они не понимают, что должно останавливать их от создания ещё одной. Так филолог Ницше объявляет пришествие чего-то совершенно иного, а мажор Витгенштейн решает покончить вообще со всем. Поэтому вместо прекрасной в своей глубине философии вошедшие скорее находят в ней что-то, что Кант назвал бы возвышенным. Широта идей завораживает, но и разочаровывает в моменте, когда многие из них оказываются бесполезными, претенциозными и попросту мешающими восприятию новых.
Как ни странно, зачастую в историческом масштабе вошедшие в философию видят прогресс — что забавно, нередко в том, что до них не было толковой метафизики (Шопенгауэр), политической философии (Маркс) или логики (Витгенштейн). Они могут признать регресс и стагнацию, но скорее как нечто, что было до.
Тем не менее, влечение опасно. Тем самым, что оно всегда будет превыше объекта, на которое направлено. В лёгкой форме вошедший в философию действительно изымает из неё только вышеупомянутую филодоксию — страсть к изучению новых направлений и теорий. В тяжёлой форме он может попросту не заметить, что в действительности уже занимается неким искусством, связанным с философией. Творением из мыслей, идей и концептов, которое превыше тяги к мудрости. Зачастую они даже сами отмечают, что обнаруживают себя на краю мысли — что можно заметить у Гегеля, Хайдеггера, Делёза, Бодрийяра, Юма. Или даже признают, что покинули философский фронтир, что можно наблюдать у некоторых семиотиков и философов языкового анализа, которые уже находятся на территории, где существование не мыслимо без поддержки языкознанием. Хорошо демонстрирует всё это Дэвид Чалмерс, который пришёл в философию с совершенно новой трудной проблемой, на которую его инспирировала интеллектуальная литература, а сама проблема неотрывна от поддержки нейронауками.
Конечно, на каждом по-разному отпечатывается то, находился ли он в философии изначально ввиду семьи или очень хорошего образования, или вошёл в неё со временем, когда обрёл внутреннюю необходимость или интерес. Наравне с теми из кого окружение мудростью делает прекрасных лекторов и современных аристократов, есть и множественно мертворожденных — тех, кто уже освоили всех Спиноз и Кантов в молодости и к сознательному возрасту стали холодны к философскому знанию. Хотя, конечно, порой из таких «мёртвых для философий собственных детей» получаются отличные люди искусства и политики. В общем-то это уже апробированный «английский подход», когда сначала человек в университете учит философию и классикс, а на выходе империя посылает его администратором в Индию или капером в Атлантику, организовывать прииски в Африке или заниматься дипломатией в Пекине.
Да и большинство амбициозных вхождений в философию не заканчиваются тем, что человек пробуждает мир знания от догматического сна или хотя бы на манер Бодрийяра становится крайне важным публицистом. Зачастую множественные неудачные набеги на философию быстро разочаровывают. Но, конечно, из этих походов можно вынести пользу и для иной жизни. Поэтому из «неудавшихся любовников философии» часто получаются хорошие бизнесмены и попросту довольно интересные в личном общении люди.
Точно также, то, что человек вошёл в философию не означает того, что для него автоматически закрыты исторические и технические нюансы. Тот же Делёз, будучи историком философии, вполне себе мог бы сойти за рождённого в ней, если бы его с потрохами не сдавал настрой. Во-первых, восприятие истории философии, как совокупления — в отличии от других историков, которые восхваляют и комментируют мыслителей как-бы с дистанции, Делёзу очевидна необходимость приблизиться вплотную и заделать ребёнка. Во-вторых, ему необходим принципиально новый вокабуляр. В-третьих, саму философию он видит, как свободное конструирование и оперирование понятиями — то есть, как нечто находящееся на грани творчества.
Иными словами, дело не только в том, как действительно сложилась история знакомства с философией, но и как сложилось изначальное отношение к ней. Рождённые в философии также могут быть чутки к новым течениям, но их выдаёт фундаментальная направленность подхода. Стилистическая смелость Бертрана Рассела никоим образом не покрывает его глубинной концептотворческой осторожности и стеснительности. Условный современный специалист по платонизму может быть глубоко осведомлен об актуальных направлениях мысли от последних изысканий в философии сознания до видов спекулятивного реализма, но ему трудно изложить эти идеи изнутри. Он говорит с почтенного расстояния, может дать блестящую внешнюю оценку идей, обнаружить их связь с общим телом философии, но он не может войти в эти направления. Скажем так, понять их внутреннюю химию. Всё это похоже на негласный запрет, подобный по своей сакральности инцестуальному. Ведь тот, кто рождён в философии входить в неё не должен.
Отдельно стоит заметить, что рожденные в философии представляются более редким типом людей, но куда больше тех, кто на них хочет походить. На мой взгляд, особенно это заметно в академической среде, когда некоторые люди даже напрямую создают себе личную мифологию с лейтмотивом философии, которая всегда была где-то рядом. Помимо же этого не каждый вошедший в философию сохраняет амбиции и страсть к интеллектуальной конкуренции, а поэтому со временем он может достаточно сильно породниться, чтобы по клановому принципу стать «рождённым».
Да и в некоторых случаях на первый взгляд может быть неочевидно, относить ли к кого-то к рождённым или вошедшим. Как с Ницше, который в своей филологической ипостаси молодого профессора очень походит на первый тип, но отношение к философии выдаёт в нём того, кто входит в эту игру, а не почтенно склоняется пред солидной дисциплиной.
В любом случае, упомянутые в этом очерке два вида любви к философии — от привязанности и влечения — кажутся мне в чём-то достойными восхищения на фоне множества иных людей, которые удивительным образом игнорируют и её прекрасную глубину, и возвышенную множественность.
