![]()
Специально для Insolarance Самсон Либерман обратил внимание на то, как катастрофу 11-го сентября осмысляли Славой Жижек и Жан Бодрийяр. Анализ воззрений философов позволяет увидеть два важных разворота темы современного Апокалипсиса, как столкновения с реальным и перезагрузки символической системы.
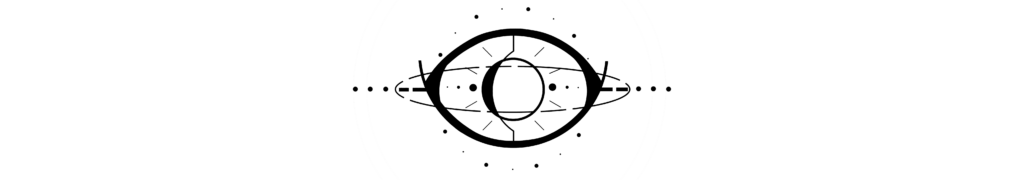
Пандемия COVID-19 претендует на статус большого события. Ведь тема привлекла не только СМИ, но и создала вокруг себя активную интеллектуальную дискуссию. Прозвучали самые разные позиции: одни видят в пандемии и самоизоляции откат к репрессивному тоталитаризму, другие — новую солидарность и коммунальность, третьи продолжают надеяться на построение посткапиталистического дигитального сообщества.
Я же предлагаю вместо предсказаний будущего вернуться в прошлое попробовать найти параллели между ужасом 11 сентября 2001-го и моральной паникой весны 2020-го. Сосредоточиться на выявлении критериев «подлинного События» и анализе того, почему оно неизбежно связано со смертью и Апокалипсисом.
Сама аналогия между терактом и пандемией может показаться неуместной в виду множество различий. Однако, и 11-е сентября, и COVID-19 оказываются событиями такого рода, которые привлекают одинаково большое количество внимания, имеют характер катастрофы, а самое главное — изменяют привычный порядок вещей. От повседневных привычек и до трансформации социальных институтов. Разрушение повседневности и слом ожиданий — это то, что притягивало внимание интеллектуалов и «толкователей» к 11-му сентября и то, что притягивает их внимание к пандемии сегодня. Апокалипсис — главный инфоповод последних трех тысяч лет.
Смерть как граница «моего» мира, всегда трактовалась также и как переход в мир «иной», мир вне-человеческий. Во многих культурах мы можем наблюдать экстраполяцию принципа смерти-перехода на мир в целом. В авраамических религиях эта идея трансформируется в идею мировой истории, которая начинается с сотворения мира и заканчивается страшным судом. Направленность истории из прошлого в будущее формирует эсхатологию — учение о конце времен или конце света. В рамках христианской картины мира грядущий Апокалипсис дает смысл всему, что происходит здесь и сейчас. И несмотря на «конец истории», «смерть Бога» (и других идеологем, вроде субъекта, автора и социального) объявленных в XX веке, подлинное Событие в XXI по-прежнему содержит в себе эсхатологические мотивы Апокалипсиса.
Событие — это то, что изымает нас из привычного порядка вещей. Разрушение реальности и всех ожиданий — его сущностная черта. Это фиксируется, например, в обсценной лексике, когда важность происходящего подчеркивается словом «п*здец», имеющее, согласно словарям, множество значений, основные из которых: «конец», «прекращение», «смерть». Важность и смысл события подчёркивается его связью с катастрофой, а в пределе — концом света.
Хотя обсценная лексика классифицирует обыденные события (вроде падения телефона в унитаз или сбежавшего кофе) и пандемию одинаково, разница между ними существенна. Дело состоит не только в степени переживаний индивида или количестве заинтересованных сторон, но и в качестве реакции. Событие с телефоном или кофе не предполагает выхода за пределы привычной повседневности и не требует изменения наших ожиданий от мира в целом. В то время как пандемия не имеет предписанных реакций, скриптов поведения и своим существованием вскрывает ограниченность нашего мировоззрения. Обнаружение чего-то, что находится за пределами наших ожиданий и представлений, обнаружение собственной конечности — это и есть своеобразный конец света. И это, конечно, всегда экзистенциальная катастрофа.
Ближайшее событие, которое способно сравниться в своей катастрофичности с пандемией — это теракт 09/11. Их объединяет ощущение ужаса от неспособности общества (науки, истории, государства, философии) дать адекватное объяснение происходящему и конкретную норму поведения. Стойкое ощущение незнания чего-то важного, непрозрачность и неопределенность ситуации вместе с ожиданием ее разрешения заставляет нас говорить о вновь наступившем Апокалипсисе, что и возносит обе катастрофы в ранг События с большой буквы.
Событие: психоанализ Жижека vs. символическая экономика Бодрийяра

На апокалиптичности 09/11 фокусируют внимание многие мыслители, но философски интересными представляются позиции Славоя Жижека и Жана Бодрийяра. Для Жижека, который всегда обозначает себя как продолжатель идей Лакана, событие — это травма, вторжение Реального, которое разрушает привычное представление о мире, которое «уничтожает фантазматические рамки». В качестве примера такого вторжения он часто приводит фабулу «Меланхолии» Ларса Фон Триера.
Триеровский разворот темы Апокалипсиса важен для Жижека отсутствием позитивного разрешения. Борьба с Реальным, с Фатумом, со смертью — базовый сюжет западной трагедии (Иов, Эдип, Гамлет and so on). Художественный эффект в этом жанре достигается через то, что Аристотель называл катарсисом, «очищением духа» через сострадание героям трагедии. В рамках терминологии Жижека это можно сформулировать как контролируемое в рамках произведения столкновение с Реальным. Именно таков фильм Триера с его меланхоличной (подобно Иову или Гамлету) главной героиней. В отличии от фильмов-катастроф, серийно поставляемых массовой культурой, «Меланхолия» качественно отличается от иных лент своей трагичностью.
Последняя, по наблюдениям словенского философа, обычно трактует смерть или утрату как препятствие к рождению чего-то нового (семьи, ребенка, государства, произведения). Это желание сделать смерть продуктивной, осмысленной рассматривается Жижеком как защитный механизм, попытка вписать Реальное в привычные рамки. Миф (религиозный, конспирологический, научный) является прямым ответом на бессмысленность происходящего, своего рода защитной реакцией культуры.
Подлинное Событие не вмещается в мифологические и рациональные рамки, как планета Меланхолия не вмещается в проволочную рамку астронома в фильме Триера. Именно бессмысленность 09/11 или пандемии одновременно ужасает нас и привлекает внимание, создавая Событие. Ужас прозревшего Эдипа (Гамлета, Иова and so on) — главная черта события в психоаналитической трактовке Жижека. Травма от столкновения с Реальным и «кажимостью» нашей повседневности — это главное в определении События как «локального Апокалипсиса» для словенского философа. Именно это произошло с Западным миром 11 сентября 2001 и происходит с нами сейчас во время самоизоляции.
Мотив смерти и Апокалипсиса также важен и для Жана Бодрийяра. Но француз не придаёт большого значения лакановскому различению Реального как чужого-травмирующего и реальности как моего-привычного. Бодрийяр говорит об отказе от «принципа реальности» в пользу «принципа симуляции». Первый отличается наличием референта (собственно реальности), различием между знаком и тем, что знак описывает, симуляция же — это принцип стирания границы между порядком реального и порядком знака. Симулякр не скрывает реальность, он скрывает сам факт отсутствия этой реальности. Для простоты можно сказать, что симулякр подменяет реальность, но в действительности главной симуляцией является граница между иллюзией и реальностью.
Симулякр — это попытка провести границу в том месте, где этой границы уже давно не существует. В известном примере Бодрийяра нарочитая иллюзорность Диснейленда нужна для того, чтобы скрыть иллюзорность происходящего за пределами парка развлечений. Парк развлечений, словно бы надевая на себя «маску иллюзии», автоматически надевает «маску реальности» на всё остальное (экономика, политика, социальное и прочее), которое в действительности иллюзорны в той же степени. С детским восторгом разоблачая актера в костюме Микки Мауса, мы забываем о том, что главным актером являемся мы сами, исполняя с переменным успехом роли прилежного работника, ответственного гражданина, любящего родителя и т.д. Именно таким образом симулируется утерянная граница между сказкой, вымыслом, иллюзией и реальностью.
Поэтому, когда Жижек рассматривает 09/11 как вторжение Реального, Бодрийяр интерпретирует его позицию как ретроактивную и симулятивную. Как попытку нарисовать реальность в том месте, где её уже давно не существует. Хотя, конечно, сам Жижек упрекнул бы француза в искажении собственной позиции, Реальное для него — это не объект, вещь или референт, но нечто на месте ничто или то, что «меньшее чем ничто».
При этом, сам теракт 09/11 Бодрийяр тоже отказывается считать симулякром и настаивает на его характере события или даже подлинного События, в отличии от «Войны в заливе, которой не было». Основанием событийности и подлинности он видит в уже знакомым нам эсхатологических мотивах — в разрушении и локальном конце света. Но источником этого Апокалипсиса он видит не во «вторжении Реального», а в «рождении Символического».
Табуированность смерти в обществе потребления — расхожий сюжет, который, например, лежит в основе романа «Белый шум». Центральная метафора книги — желание главного героя найти таблетки от страха смерти, который подобно белому шуму неуловимо присутствует в его жизни и делает ее невыносимой. Смерть не может быть потреблена, подменена знаком или симулякром, она — это конец тотальной эквиваленции знаков и симулякров. По этой причине в обществе всеобщего потребления смерть вытесняется, а террористы-смертники оказываются теми, кто нарушает этот порядок.
Смерть как радикальный отказ от участия в тотальном обмене знаков порождает символическое, нечто не-редуцируемое к другим знакам и потому бессмысленное с точки зрения обмена и получения выгоды. Попытки обыденно-экономически объяснить поведение смертника как все тот же обмен (1 жизнь на 300 девственниц после смерти) заранее обречены на провал. Самоубийство террористов подрывает повседневную логику капиталистического обмена, снова выбрасывает нас в потустороннее. Вынуждает столкнуться с тем, что в действительности есть нечто, что не схватывается нашими универсальными представлениями о ней.
Одним из условий того, чтобы 09/11 стало событием, является его предвосхищение в культуре, об этом говорят и Жижек и Бодрийяр. Это предвосхищение ярко показано в «Бойцовском клубе», где главный герой, будучи заядлым консьюмеристом, глубоко внутри хочет уничтожить опостылевшую реальность, лишенную внешнего экономическому обмену смысла. Для Бодрийяра главное событие заключается не в террористической атаке или противостоянии цивилизаций, но в падении зеркальных башен-близнецов. Это падение олицетворяет обрушение системы тотальной эквиваленции всего со всем. В этом смысле, событие или локальный Апокалипсис — это прыжок из опостылевшей реальности в Символическое, идейное, наполненное смыслом.
Итак, для Жижека событие — это травма и крушение привычного мира под натиском Реального. Поэтому любое значимое событие апокалиптично и связано со смертью как концом и границей привычной реальности. У Бодрийяра же речь идет об Апокалипсисе как самоубийстве или самообновлении символического системы. Смерть и конец света оказываются внутренними механизмами символической экономики. Точно также, как специфика капиталистической экономики состоит в периодических кризисах, так и соответствующий ей символический обмен существует по схожим законам. Ведь застой и популярность одних символово мешают производству других.
Таким образом, если для Жижека конец света (09/11 и пандемия) — это «Меланхолия» Триера, то для второго — это «Матрица: Перезагрузка» Вачовски.
Пандемия

Эти два разворота темы Апокалипсиса видны и в современных дискуссиях. «Перезагрузка Матрицы» и «Вторжение Реального» — так можно маркировать два радикальных способа отношения к катастрофам наших дней.
Активность и реальность вируса очевидна, а конспирологические теории насчет его искусственности вызывают улыбку и ассоциации с теориями, приписывающие 09/11 американским спецслужбам, а постройку пирамид инопланетянам. Желание вписать конец света в привычный контекст — «пост-защитный механизм», попытка собрать то, что уже рассыпалось.
Вирус — идеальный кандидат на представителя неуловимого Реального. Он демонстрирует нам несостоятельность привычной классификации видов. Вирус все время ускользает от того, чтобы ему дали четкую дефиницию: живой это объект или нет? Какое место он занимает в эволюции живого? Занимает ли? Применимо ли к вирусу понятие вида, раз он приобретает новые мутации и штаммы настолько быстро? «Организмы на краю жизни»: почти поэтическая пограничность вируса показывает тот разрыв, через который к нам прорвалось Реальное — разрыв между живым и неживым. Возможность неживой активности и навязчивости вируса, его неживая субъектность и реальность — вот что ужасает (также как нас пугал искусственный интеллект в 90-ых).
Не-реальность пандемии часто аргументируется не только конспирологически, но и обратным образом — её «природностью». Простуда и сезонный грипп давно стали частью повседневности и воспринимаются не как События, но как внешние условия или окружающая среда, недостойные серьезной реакции и обсуждения. Разговор о погоде или о здоровье обычно употребляется как синоним разговора ни о чем. Политическое игнорирование природных явлений хорошо раскрывает кейс с «Великим смогом» в Лондоне в 1952-м, наглядно показанный в 4-ой серии «The Crown» под символическим названием «Act of God». Стучащий по столу Уинстон Черчилль с криками: «Это погода, это божье деяние, есть куда более важные вопросы» — один в один первоначальная реакция человека или государства на пандемию.
Понимание природы как пассивного объекта, не имеющего субъектных черт — основа классического естественнонаучного мировоззрения. Дискурс экологии (который многим обязан упомянутому «Великому смогу») не отменяет этой дихотомии, но вносит туда моральный и политический контекст. Экология, как указывал ещё Жижек лет 15 назад, склонна рассматривать природу как некую внешнюю нам гармонию, противостоящую агрессивному вмешательству человечества. То есть конечной причиной и инстанцией всегда оказываются действия людей. Ужас пандемии именно в том, что вирус — не продукт, не результат и не «внешняя среда обитания». Он главное действующее лицо.
С другой стороны, пандемия может быть рассмотрена как символическое событие. Признаком переустройства символической системы, «перезагрузки Матрицы» можно считать отказ от парадигмы «качества жизни». Экономическое благополучие окончательно потеряло свой статус ориентира как индивидуальных устремлений, так и государственной политики. Образ массового потребителя был потеснён на рубеже 10-ых образами политических борцов различного направления («Русский мир», «прекрасная Россия будущего», феминитивы and so on). Сегодня потребление и политическая борьба, как смысловые инстанции дополняются противостоянием между паникой и игнорированием Апокалипсиса. Между экономическим благополучием, обнулением конституции и самоизоляцией российское общество этой весной выбрало последнюю.
Самоизоляция меняет саму систему политических координат. 09/11 — часть общего тренда нулевых переноса политического напряжения между правыми и левыми из области марксовой политэкономии и политэкономии знака в область идентичности. Политические вопросы того времени — это прежде всего вопросы глобализации и локализации, права на локальную идентичность и ее границы. В конце 10-ых политическое напряжение сформировало новые дихотомии: климатоскептики/ экологи-активисты; антипрививочники/ мед.просветители и т.д. Нельзя сказать, что этих вопросов не было в политической повестке совсем, скорее они переместились с периферии в центр политического внимания.
Гражданский потенциал изначально бюрократического термина «самоизоляция» вдруг оказался не пустым симулякром, но реальной формой общества. Самоизоляция — форма гражданского участия-неучастия в общей «борьбе с пандемией». Этот подвиг ничегонеделания вдруг обрел ауру аскезы. Жертва собственным комфортом, производительной эффективностью, достатком — это жертва, которую большинство оказалось готово принести ради «всеобщего блага». Несмотря на некоторое «падение жертвенного пыла» после первых недель, аура жертвы и подвига всё ещё сохраняется.
Оказалось, что у всех друзей в соцсетях есть заготовленный план действий-недействий на случай карантина: нечитанные книги, несмотренные фильмы-сериалы, недоделанные фотографии-тексты-диссертации, запущенная физ. форма, невыученные языки, неосвоенные техники живописи и т.д. Эта готовность, правда, только усилила нашу фрустрацию, а может и была своего рода ответом на неё. Также как после 09/11 все оказались готовы пожертвовать частью личных свобод при обязательном досмотре в аэропортах и в российском метро (а потом фрустрированы), мы оказались готовы сегодня к самоизоляции.
И также как в случае с 09/11 мы со свойственным почти всем нам ресентиментом предвкушали саму катастрофу. Только если на рубеже 90-00-х массовый человек мечтает освободиться от офисного рабства и взорвать финансовую систему, то к концу 10-ых эта «мечта» трансформировалась в ожидание экологического кризиса. В 2019 году все уже были готовы к Апокалипсису. Бруно Латур сравнивал Грету Турнберг с Жанной Д’арк и прямо называл ее предвестницей апокалипсиса. Темная экология Мортона («мэйк природа грэйт эгэн» то есть подобно природе времен пандемии чумы и оспы) была главной линией отечественного континентального философского мейнстрима. Не говоря уже о переводе на русский романа Негарестани и ажиотаже вокруг «Темного Логоса».
Все перечисленное, включая Мортона, с некоторыми оговорками можно представить как примеры общего тренда новых онтологий. Жажда «Великого Внешнего» у Мейясу, «страсти по объектам» Хармана, актанты Латура, «коинсидентология» Йоэля Регева — всё это попытки выйти за пределы той дихотомии человека-субъекта и природы-объекта. Заявивший о себе Другой сегодня — это не Другой человек или Другая культура, это Другой как не-человек и не-культура.
Характер неописуемого и при этом ожидаемого Апокалипсиса возвышает пандемию COVID-19 до ранга События. Апокалипсис всегда привлекает внимание публичных интеллектуалов и различного рода пророков, поскольку у нас нет конвенциональных инструментов для описания. Травматический шок в сочетании с оправдавшимися надеждами на избавление от обыденного — такова основная реакция на пандемию. И если в 2002 Жижек провозгласил «конец отпуска от истории», то сегодня следует возвестить «конец отпуска от тьмы». Природа теперь — это не внешняя среда или условия обитания человечества, но темные пугающие силы, которые имеют свои устремления, с которыми придётся считаться.
В оформлении использована работа Artem Tremorhands.
