![]()
Константин Морозов рассказывает о том, как можно обосновать моральный реализм посредством фактов о человеческом благополучии.
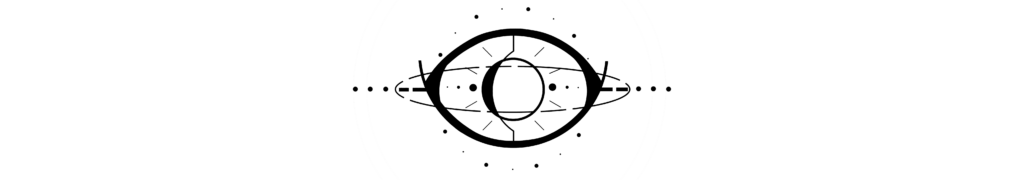
Сегодня моральный реализм — мейнстримная позиция среди академических философов. В пользу этого говорит, например, опрос Дэвида Чалмерса и Дэвида Бурже, 62,07% участников которого принимают или склоняются к моральному реализму. Об этом же свидетельствует общее количество публикаций и тенденции в разделах «Метаэтика» и «Нормативная этика» на сайте PhilPapers. Сюда же можно отнести статистику самых цитируемых статей по философии с сайта Кембриджского университета. В списке самых цитируемых авторов, рождённых после 1900 года, на Стэнфордской философской энциклопедии тоже, как ни странно, доминируют моральные реалисты. Эти соображения ни в коей мере не говорят о том, что моральный реализм — это не вызывающий сомнений консенсус для всех философов, но они свидетельствуют в пользу мейнстримности подобного взгляда.
Коротко моральный реализм можно определить как позицию, согласно которой существуют объективно истинные моральные суждения. Говоря проще, моральные реалисты верят в существование объективной морали, истинной для всех людей. Если же говорить сложнее, то моральные реалисты утверждают, что моральные суждения выражают не эмоции, культурные предписания или субъективные установки людей, а объективные факты или свойства мира. И эти суждения бывают истинными в той мере, в какой они выражают реальные факты или свойства мира. Некоторые философы называют последние «моральными фактами» или «моральными свойствами», но не всем по душе подобная терминология [1].
Ссылка на мейнстримность здесь, разумеется, не является обоснованием истинности морального реализма. Однако эта тенденция должна быть любопытным для всех, кто начинает своё знакомство с философией и особенно для тех, чьё знакомство связано с фигурами вроде Фридриха Ницше или Макса Штирнера. Как кажется, философы — это именно те люди, для которых профессиональным долгом является критическая рефлексия над распространёнными установками и убеждениями. И часто ожидается, что философы не будут принимать на веру любое мнение, которое распространено среди «простых обывателей». Почему же тогда многие философы столь большие энтузиасты в своей поддержке какой-то «объективной морали»?
Сперва стоит заметить, что моральный реализм не предполагает конкретной теории морали. Поэтому моральные реалисты вовсе не обязаны поддерживать конвенциональную мораль своих сообществ. Напротив, для моральных реалистов исследование морали в чём-то схоже с научным исследованием. На протяжении всей истории наука развивалась, отбрасывая или перерабатывая некорректно отражающие мир научные теории. Поэтому для моральных реалистов нет ничего невероятного в том, что конвенциональная мораль тех или иных сообществ окажется некорректной в отражении моральных фактов. Более того, моральный реализм может быть даже более плодотворным в том, чтобы мотивировать критическое переосмысление существующей морали, потому что конечной целью моральных реалистов является отыскание моральной истины, а не просто критика существующих моральных теорий.
Но зачем кому-то вообще поддерживать моральный реализм? Мораль как совокупность норм и правил, регулирующих человеческое поведение, выглядит очевидно человеческим изобретением. Как кажется, моральные законы создаются людьми, а не открываются ими по аналогии с законами физики или математики. И на первый взгляд сложно понять, в каком смысле нормативные утверждения, вроде «Неправильно убивать невинных людей», корреспондируют или отсылают к голым фактам. Они не похожи на простые описания некоторого положения дел в мире, наподобие «За окном идёт дождь». Легко представить процесс эмпирической проверки суждений второго рода: достаточно выглянуть за окно и увидеть капельки дождя на стекле, а можно и самому выйти на улицу, чтобы ощутить влагу на собственной коже. Но как должен выглядеть процесс проверки утверждений первого рода? Ясно, что в примере выше речь идёт об убийствах невинных людей, но что именно мы говорим об этих убийствах, называя их «неправильными»? В высказывании «За окном идёт дождь» за каждым словом стоит фоновая очевидность — для всех ясно, что имеет в виду человек, говорящий о дожде за окном, а потому столь же ясно, как можно проверить истинность его слов. Но в высказывании «Неправильно убивать невинных людей» эта фоновая очевидность не затрагивает первое слово, а потому не столь ясно, каковы критерии эмпирической проверки такого свойства, как «неправильность».
В качестве стартовой точки для нашего аргумента в защиту морального реализма мы условимся на том, что центральным понятием для любой моральной теории является счастье. Здесь мы не будем понимать счастье как просто состояние психологического удовлетворения или комфорта (хотя это состояние и будет являться составным компонентом счастья в любой адекватной моральной теории). Вместо этого мы будем использовать понятие «счастье» примерно в том же смысле, в котором философы обычно говорят о «процветании», «благополучии», «благосостоянии» или «хорошей жизни».
Утверждение о том, что счастье занимает центральное место в обосновании морального реализма, не является бесспорным. Сторонники этики долга, известнейшим из которых является Кант, не придают большого значения счастью в своих обоснованиях. Но это исходное утверждение о центральном месте счастья в обосновании морали и не является невероятной или глубинно спорной предпосылкой. Начиная с Платона и Аристотеля философия рассматривала моральные добродетели как необходимые условия и составные компоненты «эвдемонии», своего рода морализованной концепции счастья или благополучия. Распространённый в наши дни утилитарный подход рассматривает мораль через призму обоснованных подсчетов для максимизации счастья, хотя и не склонен глубоко прорабатывать саму категорию «счастья», как это делали античные этики.
Таким образом, первым шагом в нашем обосновании объективной морали будет обоснование того, что благополучие человека также является чем-то объективным. Если рассматривать счастье как вопрос субъективных установок, то мы всё ещё можем обосновать утверждение, что обоснованная стремлением к счастью мораль состоит из объективных правил. Тем не менее, для аргумента, который мы будем строить сегодня, важной предпосылкой является то, что счастье человека не определяется его субъективными оценками и мнениями. Доказав это, мы сможем перейти к вопросу об обосновании морали. Но первым шагом мы должны определить: почему счастье объективно?
Счастье, исполнение желаний и объективные списки
В современной философской литературе по теориям благополучия доминируют два основных подхода к определению счастья: теории объективного списка и теории исполнения желаний. Иногда этот перечень расширяют за счёт добавления к нему гедонизма в качестве третьей самостоятельной альтернативы. Однако мне ближе трактовка, согласно которой гедонизм представляет собой теорию объективного списка, где список состоит всего из одного компонента — удовольствия. Это не единственный пример подобных монистических теорий объективного списка, где благополучие исчерпывается всего одним компонентом. В различных версиях религиозной этики Бог (или, возможно, близость к нему) является единственным подлинным благом, составляющим человеческое счастье. Путаница с вынесением гедонизма в качестве отдельной альтернативы связана с тем, что под «теориями объективного списка» в целом часто подразумевают только их плюралистические формы, в которых существует несколько несводимых друг к другу самоценных благ, составляющих счастье.
Поэтому более продуктивный способ отделить две противоборствующие концепции благополучия касается не компонентов счастья, а того, что делает ту или иную вещь подобным компонентом. Сторонники теории исполнения желаний считают, что достаточно некоторого субъективного оценочного отношения конкретного человека к какому-то предмету, чтобы этот предмет был компонентом его счастья. Это субъективное оценочное отношение и называется «желанием» или «предпочтением»: если в данный момент я хочу пиццы, то счастье для меня состоит в получении пиццы.
Соответственно, к сторонникам теории объективного списка примыкают все, кто отрицают релевантность этого субъективного оценочного отношения к счастью. Например, для гедонистов конкретные вещи становится источником счастья ввиду не нашего желания достичь эти вещи, а получаемого от них удовольствия. Наши желания здесь вторичны по отношению к переживаниям, которые составляют счастье. Едва ли теории объективного списка нашли бы широкую поддержку, если бы субъективная удовлетворённость и желательность чего-либо вообще не играли никакой роли в том, что приносит нам счастье. Однако это субъективное отношение не является тем, что делает ту или иную вещь компонентом счастья. Поэтому, как считают сторонники теорий объективного списка, нет ничего странного или противоречивого в том, что иногда люди не имеют этого оценочного отношения к тому, что объективно является компонентом их благополучия, пока они не испытают опыт реализации этого объективного блага.
На первый взгляд теория [исполнения] желаний звучит интуитивно правдоподобной. Что, как не моё субъективное желание добиться чего-то, делает ту или иную вещь составным компонентом моего личного счастья? Кроме того, все люди разные и получают удовлетворение от разных вещей, так что едва ли можно предложить какой-то универсальный стандарт человеческого благополучия. Зато разницу в персональных представлениях о счастье отдельных людей легко объяснить тем, что счастье напрямую связано с их субъективными предпочтениями.
Но это интуитивное правдоподобие оборачивается рядом контринтуитивных следствий. Представим, например, старого моряка Билли, который страдает от тяжёлой алкогольной зависимости. Врач Билли уведомляет его, что если Билли не откажется от алкоголя, то в скором времени его настигнет смерть от какого-то из многочисленных заболеваний, обусловленных пристрастием старого моряка к выпивке. Но Билли не хочет бросать пить, он желает продолжать пить каждый день, как он давно привык. И его не заботит даже тот факт, что пагубная привычка отвратила от Билли всех его старых друзей и семью. Алкоголь всё равно остаётся единственной страстью нашего героя. Но разве Билли найдёт своё счастье на дне бутылки, а не в реабилитационном центре для алкозависимых?
Часто вещи, которых мы хотим, это не те вещи, в которых мы нуждаемся. И наоборот. Случай Билли кажется особенно отчётливой иллюстрацией для этого утверждения. Иногда наши желания расходятся с тем, что действительно принесло бы нам реальное счастье. Алкоголь — это не единственный пример подобного деструктивного желания. На это место можно подставить, например, наркотики, азартные игры, деструктивные религиозные культы, непродуманные карьерные решения, токсичные романтические отношения и так далее. Любой, кому кажутся убедительными эти соображения, имеет веские основания отвергнуть теорию желаний в пользу какой-то версии объективного списка.
Как сторонник теории желаний мог бы ответить на случай Билли? Сперва он мог бы «закусить пулю» и продолжить утверждать, что счастье Билли состоит в продолжении его пьянства, что бы мы или его лечащий врач ни думали об этом. Возможно, нам кажется, что Билли не найдёт своё счастье на дне бутылке, но только сам Билли может решить, в чём состоит его счастье. И если он отдаёт предпочтение алкоголю, а не физическому здоровью, долгой жизни и крепким отношениям с семьёй и друзьями, то так тому и быть. Сторонник теории желаний даже мог бы зайти дальше и обвинить нас в «патернализме» и вмешательстве в чужую автономию за наши попытки навязать Билли ту концепцию счастья, которую он не разделяет.
Однако подобный ответ упускает одно обстоятельство. Люди часто жалеют об исполнении своих желаний. Возможно, в моменте Билли не осознаёт свой алкоголизм как серьёзную проблему, но в момент обострения какой-то из его многочисленных болезней его, как и многих других алкозависимых, может посетить прозрение о том, что ему не следовало столько пить. Не каждого алкозависимого посещают такие прозрения, но наличие даже пары таких случаев что-то говорит нам о том, что люди часто жалеют о претворении своих желаний в жизнь. Это относится не только к алкогольным или иным зависимостям, но даже к мелким бытовым ситуациям. Никогда ли вы не жалели, что потратили деньги на какую-то ерунду, хотя в момент покупки были точно уверены, что нуждаетесь в ней?
Это не было бы острой проблемой для сторонника теории желаний, если бы речь шла просто о том, насколько изменчивы человеческие желания. Вчера мне хотелось пиццы, сегодня мне хочется суши — это абсолютно нормально. Так и для Билли было бы нормально, что вчера он хотел пить, а сегодня, столкнувшись с последствиями такого образа жизни, уже не хочет. Однако мы говорим о том, как меняется отношение к одной и той же ситуации. Билли не просто не хочет пить сегодня, столкнувшись с последствиями вчерашней попойки, он жалеет о том, что хотел пить вчера. Можем ли мы сказать, что Билли счастлив, если он насколько радикально расходится в собственной субъективной оценке исполнения его желаний?
Сторонник теории желаний мог бы «закусить пулю» и в этом случае, ответив, что о счастье можно говорить только в настоящем времени. В тот момент, когда Билли хочет выпить и это желание исполняется, мы можем назвать его счастливым. И даже сам Билли не может ретроспективно отменить своё счастье от этого момента, решив на следующий день, что ему не стоило бы пить. Но в таком случае уже сам сторонник теории желаний впадает в что-то, смутно напоминающее «патернализм». Ведь теперь он отказывает Билли в его привилегии определять содержание собственного счастья. Потому что если Билли на закате своего физического здоровья скажет, что прожил несчастную жизнь, растеряв всё ценное и дорогое ради дешёвой выпивки, то сторонник теории желаний должен будет возразить ему: «Но ведь ты получил то, чего хотел. У тебя нет оснований жаловаться на своё текущее состояние, потому что в тот момент выпивка была именно тем, чего ты хотел».
Осознавая проблему с исполнением актуальных желаний, сторонник этой концепции благополучия мог бы модифицировать свою теорию, чтобы избежать случая Билли. Например, он мог бы занять максимизирующую позицию, которая связывает счастье не с исполнением актуальных желаний как таковым, а с его максимизацией. Подпортив себе здоровье злоупотреблением алкоголя, Билли значительно сократил продолжительность своей жизни, а это в долгосрочной перспективе сокращает потенциальное количество исполненных желаний и, таким образом, его счастье.
Но представим рядом с Билли ещё одного персонажа — талантливую 18-летнюю нейроучёную Мэри. В своём юном возрасте Мэри совершила настоящий прорыв в науке, а во всех её научных достижениях её окружала любящая и заботливая семья. К сожалению, из-за редкого генетического заболевания Мэри умирает совсем молодой, хотя и в окружении любимой семьи и друзей. За свои короткие 18 лет жизни Мэри едва ли успела исполнить столько же своих желаний, как Билли, но так ли очевидно, что эта математическая разница решающим образом делает Билли более счастливым человеком? Даже в том случае, если ретроспективное сожаление об исполнении желаний как бы обнуляет их на общем счётчике счастья, очевидно ли, что Билли более счастлив исключительно за счёт возрастной разницы с Мэри?
Эта проблема будет актуальна, впрочем, только для тотально максимизирующей позиции, но её можно избежать, предложив относительно максимизирующую позицию. В первом случае максимизации подлежит абсолютное количество исполненных желаний, тогда как во втором — количество исполненных желаний, делённое на количество прожитых лет. В таком случае жизни двух людей могут быть одинаково счастливыми, даже если один из них прожил вдвое дольше, если итоговое соотношение прожитых лет к количеству исполненных желаний будет равно. Но и этот вариант позиции не защищён от контринтуитивных следствий.
Сравним Мэри не с Билли, а с её подругой и коллегой по лаборатории Кэри. Так как у Кэри нет генетических заболеваний, то она доживает до 72 лет, а общее количество исполненных желаний за её жизнь в 4 раза больше, чем у Мэри. В результате счётчики счастья Мэри и Кэри равнозначны. Но разве сам тот факт, что Кэри прожила столь же насыщенную жизнь, как и Мэри, но в 4 раза более продолжительную, не значит, что жизнь Кэри в целом была более счастливой? Сторонник относительно максимизирующей позиции вполне мог бы ответить на это: «Нет, если только Мэри сама не хотела прожить более долгую жизнь. Если она была равнодушна вопросам долголетия, то у нас нет оснований считать, что её жизнь в чём-то хуже, чем у Кэри. Но если Мэри хотела прожить дольше 18 лет и не прожила, то жизнь Кэри счастливее просто в силу того, что она реализовала это желание, а Мэри — нет».
Но у этого ответа есть несколько проблем. Во-первых, разница между оценкой благополучия Мэри и Кэри здесь равняется 1 дополнительно исполненному желанию. Представим ещё одну подругу Мэри — Мэгги, которая прожила жизнь, полностью идентичную Мэри, но в свой последний день рождения она выпила чашку чая, за счёт чего её уровень счастья равняется таковому у Кэри. Так ли очевидно, что уровни счастья Кэри и Мэгги совпадают из-за того, что первая прожила в 4 дольше, чем Мэри, а вторая — выпила чашку чая? Во-вторых, если Мэри хотела дожить до своего 19-го дня рождения, то что мешает нам представить, что Кэри хотела дожить до 73-го дня рождения? Тогда между ними нет неравенства в уровнях счастья, хотя фрустрация желания Мэри кажется более значительной, чем фрустрация желания Кэри. На это можно ответить, что Мэри и Кэри хотели дожить не просто до своих следующих дней рождения, а, например, до 100 лет.
На первый взгляд, это ничего решительно не меняет, потому что и Мэри, и Кэри до 100 лет так и не дожили, то есть уровень фрустрации желаний у них одинаков. Но есть два способа объяснить, почему степень фрустрации Мэри и Кэри асимметрична. С одной стороны, можно сказать, что мы должны воспринимать в качестве фрустрированного желание Мэри дожить до каждого следующего дня рождения, начиная от 19-го и заканчивая 100-м, тогда как в случае с Кэри фрустрированными оказываются её желания дожить до следующего дня рождения, начиная с 73-го и заканчивая 100-м. Но это вменение им желаний, которые Мэри и Кэри фактически не имели. Почему бы тогда не вменить им ещё больше таких желаний?
С другой стороны, можно возразить тому, что исполнение желаний представляет собой бинарную оппозицию: желание либо исполнено, либо фрустрировано. Исполнение желаний может пониматься и как вопрос степени, и с этой точки зрения желание дожить до 100 лет хоть и было фрустрировано и для Мэри, и для Кэри, для последней было фрустрировано в меньшей степени. Но это возвращает нас к первой проблеме — разница благополучия Мэри и Кэри не кажется вопрос степени исполнения какого-то одного желания. Это затруднение также можно было бы решить, установив некоторую иерархию желаний, которая бы придавала больший вес желанию долголетия перед желанием выпить чаю.
Но на чём основана такая иерархия? Если она предполагает, что желание долголетия всегда имеет приоритет перед желанием выпить чаю, то это просто замаскированный объективизм в отношении благополучия. Если же эту иерархию каждый устанавливает для себя сам, то рассмотрение случаев Мэри, Кэри и Мэгги не имеет смысла, потому что Билли всегда может сказать, что в его личной иерархии желаний выпивка имеет столь большой вес, что исполнение одного этого желания перечёркивает любую разницу между ним и троицей нейроучёных. Так что никакая более насыщенная количеством исполненных желаний жизнь не будет превосходить жизнь Билли, если мы просто доверяем его субъективной оценке значимости выпивки в его жизни.
Другой возможной модификацией теории желания будет плюралистичная позиция. С этой точки зрения, счастье состоит не только или даже вовсе не в максимизации исполненных желаний, но и в их разнообразии. Билли прожил всю жизнь (или значительную её часть), будучи движимым лишь пристрастием к выпивке, тогда как другие люди получают удовлетворение из большего количества вещей. Однако это снова возвращает нас к «антипатерналистскому» возражению. Если та или иная вещь приносит счастье в силу субъективного оценочного отношения, то почему кто-то может решить за нас, что наши желания должны быть более разнообразны, а не менее? Если счастье действительно состоит в удовлетворении субъективных желаний, а у кого-то эти желания однообразны, то разве не должен сторонник теории желаний просто согласиться с субъективной оценкой этого человека?
Но даже если бы «патернализм» не был присущ этой позиции, она всё ещё не объясняет, каким образом Мэри удаётся быть счастливее Билли. Допустим, Мэри никогда не видела в своей жизни другой страсти, кроме науки, а поэтому её субъективные желания всегда были скудны. Билли, напротив, был довольно разнообразен в своей тяге к выпивке — он перепробовал все виды доступного ему алкоголя. И он регулярно совершал какие-то абсурдные действия, находясь в состоянии опьянения (например, стоял на одной ноге как цапля). Каждое такое действие — это реализованное желание. И как своим количеством, так и разнообразием эти желания превосходят «скромные» жизненные свершения Мэри.
Третий вариант модификации — ранжирующая позиция. Она отдаёт приоритет удовлетворению тех желаний, которые затрагивают самоопределение личности. Желание не быть больным пьяницей (или желание быть успешным учёным) имеет более высокий приоритет, чем желание опрокинуть пару рюмок. Поэтому удовлетворение этого желания вносит больший вклад в счастье человека, чем несовместимое с ним желание продолжать пить, последнее желание удовлетворяется систематически и чаще. Но и эта модификация позиции снова сталкивается с уже знакомым «антипатерналистским» возражением. Ведь она предполагает, что самоопределение личности всегда имеет приоритет перед другими желаниями, но подобный приоритет лишь задаётся арбитрарно, а не является результатом субъективной оценки самих людей, о счастье которых мы говорим [2].
Последней проблемы можно было бы избежать, признав, что каждый самостоятельно расставляет приоритеты в своей жизни, а поэтому для каждого его приоритетное желание, перекрывающее все прочие, будет своё собственное. Но это в сущности откатывает ранжирующую позицию обратно к проблемам теории актуальных желаний. Ведь если сам Билли не хочет лечиться от алкоголизма, то у него нет желания личностного самоопределения, которое бы имело приоритет перед желанием выпить. Так что выбор Билли в пользу алкогля, а не физическое здоровье или отношения с семьёй, будет отражать его личную расстановку приоритетов. Так что мы вернулись ко всем тем же самым проблемам.
Но есть и ещё одна проблема, с которой сталкивается ранжирующая позиция, отдающая приоритет личностному самоопределению. Люди также часто сожалеют не только о конкретных актуальных желаниях, но и о желаниях, которые затрагивают их самоопределение. Вы никогда не видели людей, которые меняют специальность или даже университет прямо в середине своего обучения, потому что разочаровались в выбранной карьерной стезе? А людей, которые при поступлении в магистратуру выбирают специальность, максимально далёкую от их бакалаврской квалификации? А тех, кто увольняется, проработав много лет в одном месте, чтобы попробовать что-то новое? А разводы супружеских пар или переходы в новую религию вы когда-нибудь видели?
И даже когда люди не жалеют о своём самоопределении, у нас могут быть разумные сомнения насчёт того, что избранная ими жизненная стезя является для них наилучшей. В секте амишей есть обычай, известный как «румспринга». В ходе румспринги юные амиши могут покинуть родную общину, чтобы повидать мир за пределами отчего дома и затем самостоятельно принять решение, останутся ли они в общине или предпочтут жизнь вне сообщества амишей. Большинство амишей принимают решение остаться в общине и жить аскетичной жизнью набожного земледельца, отказавшись от всех благ современной цивилизации.
На первый взгляд молодые амиши стоят перед реальным выбором и даже имеют возможность трезво оценить все подходящие альтернативы, так что любые жалобы излишни. Но вопреки популярному представлению о румспринге, большинство амишей не уходят далеко от отчего дома и не «пускаются во все тяжкие». Крайне сомнительно, что значительная доля выросших в секте детей имеет адекватное представление о том, каких именно благ и преимуществ они лишаются, соглашаясь на жизнь в родной общине. Однако они чётко осознают, каких благ и преимуществ они лишатся в случае, если выберут мир за пределами общины. Является ли сравнение преимуществ жизни за и в пределах общины честным и адекватным? Едва ли, даже если мы будем исходить из презумпции, что только сами юные амиши могут принять решение о том, из чего состоит из персональное счастье [3].
Наконец, отвергнув все приведённые выше варианты как неудовлетворительные, сторонник теории желаний мог бы модифицировать свою позицию ещё одним образом. Он мог бы сказать, что исполнение не любых, а только информированных желаний составляет счастье для человека. Специфику этой позиции прекрасно продемонстрировал Питер Рэйлтон своим мысленным экспериментом с землёй-двойником. Рэйлтон предлагает нам представить заплутавшего в пустыне путника по имени Лонни. Наш герой изнывает от жажды, но, завидев оазис с водой, проходит мимо. Может солнце слишком напекло ему голову, а может Лонни просто не самый умный человек, но он не знает, что вода утоляет жажду, а поэтому не испытывает особого желания её пить.
В это же самое время на земле-двойнике в пустыне заблудился Лонни+, полностью информированный двойник нашего земного Лонни. Будучи полностью информированным, Лонни+ прекрасно знает, что вода утоляет жажду, а поэтому желает напиться воды. Так что, завидев оазис, Лонни+ не проходит мимо, а спешит к воде, чтобы наконец удовлетворить своё желание. Для Лонни+ вода является благом, так как является объектом его информированного желания. Но так как Лонни и Лонни+ идентичны во всём, кроме информированности, мы вполне могли бы сказать, что и для Лонни вода является благом. Ведь наш земной Лонни также хотел бы попить воды, если бы он был информирован о её свойстве утолять жажду. Желания Лонни+ делают нечто компонентом счастья не только для него самого, но и для его непутёвого земного двойника.
Разумеется, этот мысленный эксперимент не опирается на допущение, что полная наших информированных двойников альтернативная Земля реально существует. Этот пример всего лишь призван продемонстрировать, что нечто является для нас благом даже тогда, когда мы этого не желаем, если бы мы желали этого, будучи более информированными. Информированность — это всегда вопрос степени, причём едва ли существует хоть одно полностью информированное существо, вроде Лонни+ или демона Лапласа (если вы не верите во всеведущего Бога, конечно). Тем не менее, даже нашей ограниченной информированности часто достаточно, чтобы судить о благости тех или иных вещей в нашей или чужой жизни.
Теория информированных желаний действительно решает большинство проблем, с которыми столкнулись другие версии этой позиции. Так, мы могли бы представить на планете-двойника Билли+, который информирован о последствиях употребления алкоголя. Нет, он не просто также получил от двойника своего врача предостережение о скорой смерти. Билли+ в мельчайших подробностях знает, какие конкретно негативные последствия застанут его врасплох, если он не прекратит пить. И даже если сила алкогольной зависимости столь велика, что Билли+ не бросит пить тотчас же, разительным отличием его от земного Билли будет актуальное желание бросить пить. И раз уж полностью информированный двойник желает бросить пить и, возможно, рассматривает это даже как более ценное благо, чем удовольствие от выпивки, то и для земного Билли отказ от алкоголя будет благом, каково бы ни было мнение самого Билли.
Если мы рассматриваем именно информированные желания как источник благости тех или иных вещей в нашей жизни, то мы избавляемся от проблемы сожаления об исполненных желаниях. Ведь наши полностью информированные двойники не будут желать вещей, из-за которых они впоследствии будут жалеть. Это в равной степени касается как актуальных желаний, так и более долгосрочных целей, вроде связанных с самоопределением личности. Однако мы снова, как кажется, вернулись к «антипатерналистскому» возражению. Более того, мысленный эксперимент Рэйлтона даже рисует нам конкретную фигуру «патерналиста» — это наш собственный полностью информированный двойник, решающий за нас, что для нас является благом.
Простой ответ на это возражение будет таков, что у нас нет оснований жаловаться на такой «патернализм», потому что наши полностью информированные двойники безошибочны в определении того, что для нас является благом и приносит нам счастье. Если Лонни+ всегда знает, что принесёт удовлетворение Лонни, то едва ли Лонни будет жаловаться на вмешательство Лонни+ в его автономию. На самом деле, Лонни будет иметь жалобы на вмешательство Лонни+ только в том случае, если бы сам Лонни+ имел эти жалобы в аналогичной ситуации, но тогда бы и сам Лонни+ не стал бы вмешиваться в автономию своего земного двойника.
Иными словами, проблема «патернализма» не в самом факте навязывания человеку какого-то блага. Если попытка такого «навязывания» была успешна, то человек и сам не будет против осуществляемого над ним «патернализма». Если же она не была успешна, то вероятная причина этого кроется либо в том, что «патерналист» допустил ошибку в своей интерпретации потребностей данного человека, либо в том, что в личном списке ценностей этого человека персональная автономия стоит выше того блага, которое ему хотели «навязать».
В этом смысле теория информированных желаний не только не допускает произвольный патернализм, но и предоставляет основу для возражений против реального патернализма. Люди, которые обычно претендуют на осуществление патернализма, это не полностью информированные двойники с воображаемой планеты Лонни+. Это просто такие же ограниченные люди, как и все остальные. И никто не знает свои личные потребности и условия лучше, чем сам человек. Поэтому у нас есть по крайней мере презумпция в пользу того, чтобы каждый человек сам для себя определял содержание собственного счастья.
При этом теория информированных желаний полностью совместима с утверждением, что большинство людей (или даже все) ценит личную автономию. Более того, эта форма позиции может претендовать на то, что каждый человек, не придающий автономии особого значения, делает это лишь в силу недостаточной информированности о том, какие преимущества в его жизни гарантирует ему автономия. В таком случае реальный патернализм становится неуместен именно потому, что наши информированные двойники отвергли бы его в силу особой ценности автономии в формировании нашего личного счастья. Не столь контринтуитивно, что люди ценили бы блага в своей жизни гораздо больше, если бы эти блага были осознанно выбраны ими самими, а не навязаны какой-то авторитетной фигурой.
Наконец, можно также задаться вопросом, а действительно ли патернализм плох во всех своих формах? Если патерналистское вмешательство сопряжено с насилием, то главный источник проблематичности — само насилие, а не цель вмешательства. Но если патернализм осуществляется «мягким» образом, как в концепции наджа Касса Санштейна и Ричарда Талера, то проблематичность уже не столь очевидна. В конце концов, сложно представить, чтобы люди вообще не предпринимали никаких патерналистских шагов в отношении друг друга.
Кроме того, для наших рассуждений о патернализме и границах его допустимости важно, в каком именно смысле мы ценим автономию. Важно ли для нас её осуществление или обладание ею? Рассмотрим пример с добровольной продажей человека в рабство, предложенный Робертом Нозиком.
Подписывая рабский контракт, человек лишается какой-либо автономии, потому что становится собственностью другого человека. Но если он совершает это не в результате принуждения, а в силу осознанного и добровольного выбора, то это тоже своего рода реализация автономии, и ограничение человека в праве на такую продажу себя — это ограничение осуществления автономии. Так, если мы ценим именно реализацию автономии, то у людей должно быть право распоряжаться собой как угодно, даже если в результате они сокращают свою автономию (вплоть до нуля). Но если мы ценим обладание автономией, то у людей не должно быть права отказываться от автономии. Парадоксальным образом патерналистское вмешательство в автономный выбор с целью не дать людям отказываться от автономии увеличивает, а не сокращает общее количество автономии в жизни этих людей.
Таким образом, теория информированных желаний решает все возможные проблемы простой теории желаний и большинства её модификаций. Но разве нашей исходной целью не было защитить теорию объективного списка? Дело в том, что теория информированных желаний в конечном счёте просто редуцируется до теории объективного списка. Посудите сами: обе теории утверждают, что нечто составляет счастье для человека, независимо от фактической желательности этого для данного человека. Теория информированных желаний просто связывает благо с тем, чего мы желали бы, будь мы полностью информированы. Теории объективного списка не рассматривают желательность при полной информированности как то, что делает нечто компонентом счастья. Однако любая теория объективного списка должна утверждать, что объективные блага были бы для нас желанны при нашей полной информированности, если эта теория вообще претендует на психологическое правдоподобие. Ведь если бы у нас вообще не было никакого субъективного оценочного отношения к тем или иным благам, то неясно, в каком вообще смысле они являются для нас благами. В конечном счёте любая теория объективного списка — это (в каком-то смысле) теория информированных желаний, хотя обратное и, скорее всего, неверно.
Есть один способ провести чёткую содержательную границу между теорией информированных желаний и теориями объективного списка. Ведь первая позиция не даёт никакого ответа на вопрос о том, что является благом для всех людей — это зависит от их субъективных желаний, пусть и информированных, а не актуальных. Но теории объективного списка содержат наборы вещей, которые распознаются этими теориями в качестве универсальных благ, составляющих счастье для любого человека. Однако и это противоречие окажется мнимым при выполнении двух условий при полной информированности всех людей. Во-первых, есть набор благ, который любой полностью информированный человек ценит (пусть даже не одновременно каждое из этих благ). Во-вторых, все остальные блага, которые желают полностью информированные люди, так или иначе сводятся к этому набору. В таком случае мы получим тот самый объективный список, составляющий благополучие для всех людей.
На этом этапе критик теорий объективного списка снова возразит, что у людей крайне различаются представления о счастье, так что гипотеза о совпадении ценностных предпочтений у всех информированных людей кажется сомнительной. Есть контрпродуктивное контрвозражение на этот случай, которое сводит всю разницу в ценностных предпочтениях людей к их недостаточной информированности. Однако это очевидно не так: по крайней мере частично разница в ценностных предпочтениях людей объясняется тем, что все люди просто уникальны. У каждого из нас свои уникальные тело и психика, сформированные в уникальных жизненных обстоятельствах. Наши потребности обусловлены особенностями наших тел и психики, так что и разницу в наших потребностях разумно объяснять разницей в устройстве наших тел и психики.
Но это же обстоятельство является ключом к более продуктивному ответу. Ведь наши тела и психика не только сильно отличаются, но и сильно сходятся. Мы все — особи одного биологического вида, поэтому за вычетом редких аномалий у всех нас есть набор универсально присущих характерных черт, которые включают и универсально присущие общечеловеческие потребности. Каждому для [субъективно] удовлетворительной жизни нужны сон, воздух, еда, вода, тепло, безопасность и так далее. Поэтому нет ничего неправдоподобного в том, что это значительное психофизиологическое сходство обуславливает общность некоторых базовых ценностных предпочтений, которые и составляют объективный список благ. И я здесь отдаю предпочтение формулированию именно объективного списка, потому что компоненты этого списка являются для нас благами не в силу нашего субъективного желания (хотя оно играет роль в нашей мотивации реализовывать эти блага). Они являются для нас благами, потому что наше объективное психофизиологическое строение таково, что нам нужны эти блага для субъективно удовлетворительной жизни.
Но остаётся возражение от плюралистичности наших представлений о счастье. Если счастье сводится к набору универсальных благ, то почему люди имеют столь разные концепции счастья? Кто-то мечтает о романтических отношениях, а кто-то равнодушен к любви. Кто-то мечтает о славе и богатстве, а кому-то достаточно и жизни простого фермера. Для кого-то счастье — это научные открытия и поиск новых знаний, а для другого — это наслаждение искусством во всех его проявлениях. Неужели среди всего этого разнообразия есть какой-то общий стандарт для счастливой жизни, а все остальные варианты — это лишь пародия на счастье?
Частично (но в наименьшей степени) разнообразие человеческих представлений о счастье действительно объясняется недоинформированностью многих людей. Частично всему виною уникальные психофизиологические особенности каждого человека. Забегая слегка вперёд, можно сказать, что свой вклад вносит и культурно-социальный контекст, в котором мы живём. Мы продукт культуры и общества, и они накладывают отпечаток на то, что мы представляем себе как своё собственное счастье. Однако главный источник такой вариативности человеческого счастья — это просто сама плюралистичность объективного списка благ. Не существует какого-то единого блага, к которому сводились бы все остальные, а потому и нет единого стандарта счастья. Блага множественны, а поэтому могут существовать разные сценарии жизни, в разных пропорциях сочетающие разные блага, но каждый из таких сценариев может быть примером счастливой жизни.
Но множественны не только блага, но и формы их реализации. Если вы взглянете, например, на объективный список Джона Финниса, одного из самых известных сторонников этой теории благополучия, то вы не увидите там каких-то конкретных вещей. Напротив, финнисовские блага очень абстрактны — это жизнь, знание, дружба, эстетический опыт, игра, практическая рациональность и религия (в более поздней версии добавился брак). Знание можно реализовать множеством способов: и физик, и математик, и философ, и социолог, и историк, и автомеханик, и сплетник — все они стремятся к знанию и определённым образом достигают его в рамках своей личной концепции хорошей жизни. Эстетический опыт также можно реализовать как в роли художника, так и в качестве зрителя, не говоря уже о многообразии форм искусства (литература, живопись, музыка, кино, танцы, скульптура и так далее). Дружба же и вовсе уникальна в каждом отдельном случае, поскольку это всегда уникальная история отношений двух и более уникальных людей, не говоря о том, что Финнис понимает дружбу расширительно как любые близкие межличностные отношения. И даже самое спорное финнисовское благо — религию, — можно реализовать по-разному. Сам Финнис трактует это благо как любой поиск ответов на фундаментальные метафизические вопросы, и в этом смысле даже такой атеист как Жан-Поль Сартр реализует благо религии. Но и внутри симпатичной самому Финнису Католической церкви свою близость к Богу можно выразить и в роли монаха, и в роли священника, и в качестве простого набожного прихожанина.
Конечно, нет нужды соглашаться конкретно со списком Финниса, хотя некоторые из его пунктов перекочевали во все другие версии объективных списков благ. Важно скорее подчеркнуть, что набор универсальных благ — это всего лишь фундамент, на который настраиваются все перечисленные ранее факторы. И все вместе они и формируют такой разительный плюрализм в отношении индивидуальных представлений о счастье. Однако даже этого общего фундамента достаточно для того, чтобы утверждать объективность человеческого счастья.
Но аргументация выше была призвана скорее дисквалифицировать теории желаний, а не защитить именно плюралистическую теорию объективного списка. Почему бы не предположить, что есть только одно объективное благо — удовольствие? Во-первых, природа удовлетворения, которое мы получаем от разных ценных вещей (например, от еды, секса, чтения художественной литературы, научных достижений, добрых и альтруистичных поступков и так далее), неодинакова. Нет никакой феноменальной эквивалентности между разными типами удовольствия, а потому неясно, насколько все эти переживания действительно сводимы к одному благу. Во-вторых, ценность некоторых вещей в нашей жизни не связана с приятными переживаниями. Мы можем ценить знания и дружбу, даже если они не связаны для нас с удовольствием, но значит ли это, что лишённые удовольствия знания и дружба не имеют ценности? В-третьих, можно вспомнить и предложенный Робертом Нозиком мысленный эксперимент — «машину переживаний». Нозик предлагает нам представить машину, похожую на ту, что вы могли видеть в фильме «Матрица»: она погружает вас в виртуальный мир, в котором вы можете испытать любое удовольствие, о котором мечтали. Но не столь много людей согласились бы подключить себя к подобному аппарату. Как заключает Нозик, люди ценят реализацию благ в своей жизни, а не просто опыт их переживания, потому что последний легко подаётся симуляции, но это не то, что удовлетворило бы людей.
И всё же я сам не думаю, что гедонистам не найдётся, что сказать на эти широко известные возражения. В гедонизме есть нечто важное, что любая теория благополучия должна учитывать, будь-то хоть признание удовольствия в качестве одного из базовых благ, хоть признание релевантности приятных переживаний для определения того, что является базовым благом, а что — нет. В конце концов, что-то вроде гедонистического плюрализма может быть лучшей теорией, сочетающей преимущества плюралистичных теорий объективного списка, гедонизма и теории информированных желаний. Лично мне не кажется, что подобную теорию всё ещё корректно называть гедонизмом, но это скорее технический вопрос, чем принципиальный. В любом случае подобного наброска достаточно, чтобы утверждать, что человеческое благополучие даже при многообразии способов его реализации — это вопрос объективный. И на этом мы можем перейти к следующему шагу нашего обоснования.
Социальность, кооперация и коммуникация
Факты о человеческом благополучии — это объективные факты, обусловленные их психофизиологической природой. Этого достаточно, чтобы утверждать, что наша практическая рациональность диктует некоторый объективный стандарт действий, необходимый каждому для того, чтобы достичь своего счастья. Едва ли кто-то сможет отрицать, что для него было бы правильно (то есть разумно) поступать определённым образом, если бы это принесло ему счастье. Проблема лишь в том, что в силу недостаточной информированности люди не всегда осознают, в чём для них заключается счастье, а в силу недостаточной рациональности не всегда осознают, как им достичь этого счастья. Но каждый, будь он достаточно рационален и информирован сам согласился, что ему следует поступать в соответствии с этим стандартом практической рациональности.
Если наши предположения о человеческом благополучии верны, то эти утверждения не вызывают сомнений. Однако для упрямого морального скептика этих соображений вряд ли будет достаточно, чтобы признать объективность морали. Ведь всё, что мы до сих пор сказали, оправдывает лишь объективный практический стандарт достижения личного счастья для себя, тогда как мораль касается других людей и наших действий по отношению к ним. Иными словами, легко согласиться, что для каждого разумно поступать таким образом, который бы способствовал их собственному счастью. Но всё, что мы можем таким образом обосновать — это обязательство содействовать собственному счастью. Другие люди с их представлениями о счастье и личными интересами оказываются вне сферы морали.
Можно зайти дальше и указать на тот факт, что часто интересы людей оказываются противоположными. Например, может существовать некоторое благо в единственном экземпляре, которое сделало бы счастливым и меня, и моего соседа. Для каждого из нас разумно заполучить это благо для себя, а потому для каждого из нас также разумно противодействовать второму в его попытках заполучить это благо. В пределе подобные ситуации даже могут оправдывать насилие против других людей, когда на кону стоит достижение какого-то важного для нас блага.
Можно ещё больше радикализовать это возражение, указав на тех немногих из нас, чья концепция счастья сама по себе включает насилие и эксплуатацию других. Для отдельных садистов и психопатов угнетение и эксплуатация других могут быть важными источниками удовлетворения в их жизнях. Если мораль состоит в содействии собственному счастью, то, как кажется, для этих людей правильно и разумно будет применять насилие и обман против других. В любом случае это создаёт серьёзную проблему для нашего обоснования, основанного на фактах человеческого благополучия.
Прежде, чем дать ответ на подобные возражения, нам стоит заметить, что эта проблема не касается обоснования морального реализма напрямую. Скорее, она затрагивает ту конкретную теорию морали, которая будет следствием нашего обоснования. Потенциально мы можем просто согласиться, что для людей объективной и истинной моралью является этика хищничества и безудержного эгоизма [4]. В таком случае ни одно из озвученных соображений не будет являться аргументом против тезиса объективности морали как такового. Бесспорно, что большинство моральных реалистов не нашли бы такую этику хищничества и эксплуатации привлекательной, однако если наша цель — всего лишь доказать моральным скептикам какую-то объективную мораль, даже безудержный эгоизм с этой целью справляется.
И всё же если наша теория претендует на правдоподобие, нам стоило бы как-то ответить на эти опасения, что основанный на благополучии подход к моральному реализму оправдывает безудержный хищнический эгоизм. Для этого нам необходимо показать, что оправданное нами ранее обязательство содействовать собственному счастью — это всё, что нужно для обоснования обязательств перед другими людьми. Сделать это можно, продемонстрировав, что исполнение обязательств перед другими людьми необходимо нам, чтобы достичь собственного счастья. Мы можем подойти к отстаиванию этого тезиса с нескольких сторон. Лично я думаю, что к верной позиции в отношении морали можно прийти более, чем одним способом, так что приведённые нами далее соображения даже не будут являться взаимоисключающими обоснованиями, среди которых нужно выбрать только одно.
В первую очередь, мы могли бы сказать, что кооперация и коммуникация с другими людьми инструментально полезны для достижения нами наших собственных целей. Наш мир — это опасное и неприветливое место, и само физическое выживание в этом мире напрямую зависит от того, насколько мы готовы и способны кооперироваться с другими людьми. Значительную часть опасностей и невзгод, которые могут выпасть на нашу долю, мы не можем преодолеть иначе, кроме как обращаясь за помощью к другим людям. Мы не могли бы ничего противопоставить холоду и дискомфорту жизни в дикой природе, если бы другие люди на построили для нас разветвлённую инфраструктуру, включая отапливаемые дома, дороги, общественные учреждения и так далее. И мы также не могли справиться ни с одной болезнью, если бы у нас не было врачей, больниц и медицинских образовательных учреждений.
Но кооперация хороша для нас не только потому, что позволяет избегать многих проблем. И сами блага, которые мы ценим в жизни, мы часто имеем только в силу того, что люди кооперируются определённым чрезвычайно сложным образом. Если бы у нас не было пищевой промышленности и массовой торговли, то продукты питания, необходимые для нашего удовольствия и выживания, нам приходилось бы добывать самим в дикой природе или через тяжкий сельскохозяйственный труд. Объекты культуры и развлечения, которые мы ценим, также существуют лишь благодаря сложной системе социальной кооперации и абсолютно непредставимы вне общества. И даже если кто-то, подобно участникам реалити-шоу с Discovery, способен выжить самостоятельно в дикой природе (что относится к меньшинству из нас), такая жизнь вне общества будет несоизмерима ниже в своём качестве, чем жизнь сытого и одетого горожанина в развитых странах.
Поэтому люди нуждаются в социальной кооперации, чтобы их жизнь была лучше, и это значит, что для людей разумно стремиться к кооперации с другими. Это верно даже в том случае, если кто-то убеждён в отсутствии такой необходимости. Ведь благополучие человека зависит от объективных фактов о нашей природе, а не субъективных мнений и установок. И поэтому всякие возражения о том, что некоторые люди не особо заинтересованы в кооперации, легко парируются уже знакомым нам соображением, что часто люди недостаточно информированы, чтобы корректно понимать, что для них благо.
И всё же у морального скептика найдётся несколько более сильных возражений на этот инструментальный взгляд на человеческую кооперацию. Во-первых, необходимость в какой-то кооперации ещё не говорит нам о том, что для человека разумно сковывать себя какими-то правилами в обращении с другими людьми. Безусловно, какая-то «базовая порядочность» является просто необходимым условием того, что кооперация вообще состоится. (Скажем, вам сложно будет кооперироваться с кем-то, если каждому встреченному вами человеку вы будете пытаться выбить глаз). Однако когда дело заходит о более тонких манипуляциях, которые хищнический эгоист может предпринимать в отношении своих компаньонов (например, «безбилетничество»), то отнюдь не очевидно, что разумно было бы отказаться от таких манипуляций в пользу более честного сотрудничества.
Во-вторых, есть что-то контринтуитивное в самой идее, что мораль сводится просто к набору инструментальных предписаний, призванных облегчить нам достижение наших эгоистических целей. Мы склонны воспринимать мораль как сферу, где интересы другого имеют такое же, а иногда и более сильное значение, чем наши собственные интересы. Для нашей культуры характерно восприятие героизма и самопожертвования как морально хороших качеств. Но это сложно как-то оправдать, если объективная мораль состоит в простом следовании собственным эгоистичным интересам. Кроме того, когда кто-то совершает какое-то зло в отношении другого, то для нас принципиально важным в негативной моральной оценке этого зла является то, как это действие повлияло на жертву такого обращения, а не на благополучие самого вредителя. Если я сломал палец какому-то бедолаге, то морально негативным это действие делают страдания и урон, понесённые моей жертвой, а не просто тот факт, что я затруднил нам обоим взаимную кооперацию и тем пошёл против своих интересов.
Это возражения имеют разную (и даже противоположную) направленность, но мы можем разрешить оба, слегка дополнив наше обоснование. Дело в том, что кооперация и коммуникация не только инструментально ценны для нас и нашего благополучия. Этот инструменталистский взгляд рассматривает людей как изолированных и атомизированных существ, которые неохотно идут на взаимодействия друг с другом только потому, что это несёт им дополнительные выгоды. Но за исключением психопатов это плохо описывает реальные причины, по которым люди кооперируются.
В действительности кооперация также является для людей самостоятельным компонентом счастья. Взаимодействия с другими не только облегчают нам достижение некоторых благ в нашей жизни, но и сами по себе такие взаимодействия являются для нас благом. Дружба, приятельство, товарищество, семейные узы, романтическая любовь — всё это делает жизнь любого человека лучше, и каждый из нас за вычетом всё тех же психопатов стремится иметь подобные отношения в своей жизни. Конечно, не все и не сразу — некоторые предпочтут посиделки с друзьями романтическому свиданию, а другие комфортнее чувствуют себя с интернет-приятелями, чем с коллегами по работе. Однако какая-то форма межличностной близости и привязанности нужна каждому человеку для более удовлетворительной жизни. Опять же, даже если человек отрицает это и хочется выглядеть в глазах других гордым титаном одиночества.
Но как эта объективная потребность в межличностных отношениях разрешает обозначенные нами выше трудности? Здесь в ход вступает понятие нравственной добродетели. Последнее означает определённое психологическое или личностное качество, которое с одной стороны является инструментально полезным в достижении счастья, а с другой — само составляет компонент счастья. Для того, чтобы формировать надёжную близость и привязанность с другими людьми, нам нужны определённые качества, делающие нас «хорошим другом», «хорошим товарищем» или «хорошим любовником». Что это могут быть за качестве? Не утруждая себя полным описанием всех возможных добродетелей межличностного общения, отметим лишь, что подлинная дружба невозможности без отзывчивости и восприимчивости к нуждам и интересам других людей.
Эта добродетель отзывчивости, лежащая в основе нашей способности к эмпатии и состраданию, и объясняет, каким образом наше благополучие связано с обязательствами перед другими людьми. Чтобы жить счастливой жизнью, нам нужны ценные отношения, а для их надёжного формирования и поддержания нам необходимо быть таким человеком, который может воспринимать потребности и интересы другого как свои собственные. Такой человек просто в силу личностной предрасположенности не будет воспринимать других просто как инструменты для достижения своих целей. Счастливому человеку нужны подлинные друзья, а не безликие марионетки, которые он мог бы задействовать в реализации своих планов.
И эта же отзывчивость объясняет, почему для нас морально важно положение жертвы несправедливого обращения — из-за нашей способности ставить себя на место другого и воспринимать чужие жалобы как свои собственные. И мы также можем объяснить, почему для нас самопожертвование имеет такую моральную привлекательность. Способный на самопожертвование человек — это тот, кто максимально развил в себе добродетель отзывчивости к чужим потребностям, ставя эти чужие потребности выше своих собственных. При этом поскольку наш подход всё ещё основан на благополучии самого морального агента, мы даже можем ограничить эту склонность к самопожертвованию ситуациями, когда это действительно уместно. За счёт этого мы могли бы избежать другой неприятной крайности, противоположной хищническому эгоизму — безудержного альтруизма, который стирает личность в служении другим.
Кажется, мы нашли нужное решение, но на этом месте моральный скептик может притормозить нас и сказать, что мы зашли слишком далеко со своей добродетелью отзывчивости. Во-первых, наши эмпатия и сострадание не безграничны. Большинство людей действительно склонны воспринимать чужие нужды как столь же значимые, как их собственные, но эта склонность ограничена узким кругом близких людей. Чем дальше люди от нас, тем менее чувствительной становится наша отзывчивость. Речь не только про географическую и физическую дистанцию, но и про культурную или даже биологическую. Расизм, шовинизм и ксенофобия, так и не изжитые в XXI веке, ярко отражают тот факт, что люди всё ещё рассматривают свои культурно-политические общности как рамки, сдерживающие применимость их эмпатии. Если же мы затронем проблему прав животных, то ещё более очевидным станет, насколько люди могут быть невосприимчивы к потребностям существ, столь же способных испытывать счастье и боль, как и мы.
Мы могли бы зайти несколько дальше и сказать, что добродетель отзывчивости вовсе не исключает хищнический эгоизм, а лишь делает его групповым. Представьте, например, банду отъявленных головорезов, которые поддерживают друг с другом тёплые и крепкие дружеские/семейные/романтические отношения, но при этом насилуют и эксплуатируют всех других людей. Я предвижу три варианта ответа на такой сценарий:
- Можно просто сомневаться в эмпирическом правдоподобии такого сценария. Например, можно сказать, что подобные антисоциальные индивиды едва ли способны сформировать надёжную привязанность даже друг с другом, если они обращаются с другими подобным откровенно эксплуатирующим образом.
- С группой хищников-эгоистов мы можем разобраться так же, как разбираемся с индивидуальными садистами и психопатами — через апелляцию к простому большинству. Для большинства людей такое поведение не является нормальным, поэтому они будут активно заинтересованы в том, чтобы избавиться от откровенно антисоциальных людей. Исход такого противостояния сложно предугадать, потому что численное преимущество «нормальных людей» группа эгоистов может нивелировать за счёт преимущества технологического (кажется, это хорошо описывает авторитарные общества). Тем не менее, долгосрочному счастью всех, включая группу хищников-эгоистов, вынужденную тратить больше ресурсов на свою безопасность, в большей степени способствует сценарий, при котором люди отказываются от вражды и используют взаимное сотрудничество для максимизации общих выгод.
- Мы можем обратиться к добродетели упорядоченности, о которой речь идёт далее.
Первые два ответа имеют ограниченную эффективность, потому что зависят от некоторых эмпирических допущений о человеческой природе и человеческих обществах: о влиянии на человеческий моральный характер хищничества, о численности таких хищнических эгоистов, об их способностях формировать межличностные связи и об издержках поддержания технологического преимущества. Эти допущения кажутся правдоподобными применительно к миру, в котором мы живём, но в различных гипотетических сценариях они перестанут работать. Однако поскольку мы здесь утверждаем зависимость морали от человеческой природы, то мы могли бы согласиться, что изменение фактов о природе человека ведёт к изменению моральных фактов.
Во-вторых, не все люди в принципе эмпатичны и сострадательны. Даже если отзывчивость к чужим нуждам является добродетелью, не всем она свойственна (что характерно для любых моральных качеств). Если человек не склонен рассматривать чужие потребности как столь же значимые, как его собственные, то неясно, в каком смысле эта отзывчивость необходима для человеческого счастья. Иными словами, если человек ещё не научился поступать, исходя из склонности учитывать чужие интересы, то чужая боль не будет негативно влиять на его благополучие, а чужая радость не будет составлять его счастье.
Мы не можем оспорить эмпирические гипотезы, лежащие в основе этих возражений. Действительно человеческая эмпатия ограничена, да и не все люди эмпатичны. Но не стоит забывать, что добродетели составляют человеческое объективное благополучие. Даже если отдельные люди не поступают, исходя из склонности учитывать чужие интересы, мы просто можем сказать, что для них правильно было бы поступать так, потому что это способствовало бы их лучшей жизни. Нет противоречия в том, что для всех людей было бы хорошо развить в себе эмпатию и сострадание, но большинство людей, к сожалению, не делают этого или делают в недостаточной степени.
Но мы могли бы ответить на эти возражения и иным образом. Возможно, это нормально, что люди ограничивают степень своей отзывчивости к чужим потребностям степенью близости. В конце концов, именно отношения с близкими составляют непосредственный компонент нашего счастья, а не отношения со случайными незнакомцами, некоторые из которых живут на противоположной стороне земного шара. Отношения с последними составляют наше счастье лишь в той мере, в которой счастливыми нас делает чувство групповой идентичности (хоть национальной, хоть глобально-космополитической). И это нормально, что перед близкими мы имеем более серьёзные обязательства, чем перед незнакомцами.
Но отзывчивость не единственная добродетель, лежащая в основе нашего признания моральных притязаний друг друга. Другой важной добродетелью является упорядоченность. Некоторые, возможно, захотели бы назвать её добродетелью законопослушности (имея в виду естественный моральный закон, а не закон какого-либо государства [5]), но меня не очень устраивают законнические коннотации этой формулировки, да и я считаю, что введение на данном этапе понятия «морального закона» забегает слишком вперёд в нашем обосновании.
Добродетелью упорядоченности я называю склонность подчинять свои действия некоторым общим для всех регулирующим нормам. Эти нормы, разумеется, обладают не собственной безусловной нормативной силой, а скорее выражают универсальные стандарты практической рациональности. Но теперь речь идёт не об индивидуальных рекомендациях, которые наш практический разум может нам предоставить в достижении наших индивидуальных целей. Вместо этого мы говорим о правилах, имеющих универсальную применимость в отношениях между людьми. Несложно догадаться, что та самая объективная мораль, включая предписания вроде «Неправильно убивать невинных людей», будет состоять именно из таких норм, даже если обстоятельства каждого конкретного случая будут корректировать применимость этих общих норм.
Именно добродетель упорядоченности будет уравновешивать добродетель отзывчивости, создавая обязательства в тех случаях, когда мы не можем полагаться на наше нравственное чувство. Но разве мы не перескочили какой-то шаг? Почему для нас добродетелью, то есть условием и компонентом счастья, является склонность подчинять себя каким-то правилам? Разве ранее мы не определили, что по крайней мере для многих людей автономия является важной жизненной ценностью?
Именно чтобы ответить на эти вопросы я и предпочёл использовать термин «упорядоченность» вместо «законопослушность». Ведь то, что делает подчинение общим правилам нравственной добродетелью, это наше желание жить в упорядоченном и стабильном мире и окружении. Жизнь каждого из нас была бы лучше, если бы мы жили в мире, в котором все люди подчиняются предсказуемым универсальным правилам. В мире, где нам не нужно гадать при встрече с незнакомцем, пожмёт ли он нам руку или выбьет глаз, жить намного лучше, чем в хаотичной постапокалиптичной вакханалии мира Fallout [6]. Напомним, что благополучие объективно и не зависит от мнений людей, поэтому контрпримеры людей, которые охотно променяли бы современную цивилизацию с её благами на безумный угар постядерных пустошей, не являются доказательством того, что хоть кому-то было бы лучше жить в обществе без общих норм.
Поэтому в интересах самих людей содействовать поддержанию такой системы социальной кооперации, в которой люди ограничены универсально применимыми нормами. Универсальная применимость здесь оправдывается сразу несколькими соображениями. Во-первых, это просто проще, чем если бы люди были вынуждены сильно варьировать свои ожидания в разных контекстах из-за малейших изменений в фоновых условиях. Во-вторых, любая подобная система правил должна быть оправдана для всех людей, чтобы у них были рациональные основания поддерживать её и подчиняться ей. Если бы какая-то система правил ставила какую-то группу в более выгодное положение, то те, кто лишены этих преимуществ, не имели бы рациональных оснований поддержать данную систему на равных с привилегированной группой. Универсально применимые правила, в свою очередь, если вообще имеют оправдание, то имеют его в равной степени для всех людей. В-третьих, у нас просто нет рациональных оснований в пользу неуниверсальной системы правил. Между людьми нет различий, которые бы оправдывали бы, почему на одних людей правила должны распространяться, а на других — нет.
Добродетельный человек будет поддерживать такую систему универсальных норм, а для всех остальных разумно и правильно поддержать её. Поддержка в данном случае означает не просто само подчинение системе правил. Это также включает в себя систему социальных санкций против тех, кто не хочет соблюдать налагаемые системой ограничения. Если для меня выгодно жить в обществе, где соблюдаются общие правила, то для меня выгодно и «штрафовать» тех, кто нарушает правила. И эта взаимная заинтересованность в санкциях против нарушителей правил сама по себе создаёт рациональные основания поддерживать эту систему — из нежелания подвергаться санкциям.
В зависимости от характера нарушений мы можем говорить о разных санкциях. В случае проступков, связанных с насилием и принуждением, мы сами можем использовать ответное насилие и принуждение. И поскольку для всех выгодно, чтобы такая система насилия и принуждения была как-то ограничена лишь реальными случаями нарушений правил, для всех выгодно кодифицировать часть этих норм в виде позитивных законов и учредить государство, которому делегируются полномочия разрешать такие ситуации. Так эта система чисто моральных правил принимает вид реальных юридических установлений — естественное право переходит в право позитивное. Однако не все моральные нормы нуждаются именно в правовом регулировании, поэтому часто моральные санкции будут принимать форму частного остракизма, кэнселинга, шейминга, осуждения и прочего создания неудобств.
Именно через эту заинтересованность в санкциях против нарушителей предписания добродетели отзывчивости обретают универсальную силу в обход чьего-либо равнодушия к чужим интересам. Есть набор таких фундаментальных интересов, в реализацию которых не должен вмешиваться никто, чтобы мы вообще имели какие-то шансы на благополучную жизнь. Эти-то фундаментальные интересы, обретая нормативную защиту, принимают форму универсальных моральных притязаний или, говоря короче, естественных прав человека. И независимо от того, насколько другие люди восприимчивы к нашим интересам, для нас разумно поддержать такую систему социальных правил, которая будет «штрафовать» недостаточный учёт этих базовых интересов. Это создаёт два уровня для наших моральных ограничений — минимальный и максимальный.
На минимальном уровне мы претендуем по крайней мере на то, чтобы другие люди не подрывали реализацию наших фундаментальных интересов. Отсюда проистекают наиболее общие и часто регулируемые правом моральные нормы, вроде запрета на убийства, пытки, порабощения или изнасилования. Соблюдение этих запретов требует минимального признания того, что каждый человек является морально значимым существом. Оно не требует, чтобы мы активно содействовали счастью кого-то, кроме себя и особо дорогих нам людей, но налагает обязательство не подрывать чужое счастье в его наиболее базовых аспектах. Насколько это ограничивает нас в том, чтобы не подрывать чужое счастье в его уникальных нюансах, мы оставим вопрос открытым.
На максимальном же уровне мы претендуем на то, чтобы другие люди активно содействовали нашему счастью, как они содействуют своему (конечно, мы сами несём аналогичное обязательство перед другими). Ведь долгосрочный выигрыш от такого универсального содействия общему счастью затрагивает и нас тоже. И каждому было бы лучше жить в обществе, где каждый заботится о благополучии других, даже если необязательно наравне со своим собственным. Однако этого максимального уровня следования морали неразумно требовать от людей в той же степени, в какой мы требуем от них уважения к фундаментальным правам. Ведь готовность к такому альтруизму требует уже не просто страха перед санкциями, но актуальной заинтересованности в содействии чужому счастью. Но не существует морального агента, которые бы имел максимальную степень нравственной добродетельности (если вы не верите во всеблагого Бога, конечно). И всё же для нас было бы рационально поддержать подобную систему морали, воздействуя на других людей и их моральный характер более тонким и непринудительным образом.
Таким образом, предписания практической рациональности в содействии нашему счастью принимают форму универсально применимых правил. Благополучие, которое мы таким образом стремимся достичь, объективно и основано на фактах нашей психофизиологической природы. Потребность в кооперации, инструментально и внутренне содействующая нашему счастью, также объективна. Стандарты практической рациональности в достижении реализации этой потребности столь же объективны, поскольку наш практический разум — просто ещё одна часть нашей общей природы в приложении к объективным фактам мира (и природным, и социальным). В конечном счёте мораль, которая формируется из этих практических стандартов как набор универсальных правил, тоже объективная и основана на фактах.
Как видно, приведённое обоснование не сталкивается с «интуитивными трудностями», которые отвращают от морального реализма философов-«новичков». Является ли описанный нами практический стандарт человеческим изобретением? В той же степени, что и законы физики. Этот стандарт, стоящие за ним факты о благополучии и его объективная применимость были открыты, а не «созданы» людьми. Является ли суждение «Неправильно убивать невинных людей» эмпирически непроверяемым? Если только мы не конкретизируем, что для нас это утверждение равнозначно более сложному суждению — «Для содействия собственному благополучию все люди должны воздерживаться от убийств других невинных людей». Мы вполне можем эмпирически проверить, так ли это, даже если такая проверка представляет собой более сложный процесс, чем выглянуть в окно. Но будто проверка эмпирических гипотез об элементарных частицах не потребовала создания большого адронного коллайдера… И при всём этом нам даже не потребовалось фигура Всемогущего Морального Авторитета, чтобы обосновать или проверить наши моральные утверждения.
Конечно, остаётся ещё много всего, что нам следует исследовать и прояснить, чтобы описанный набросок принял форму полноценной моральной теории. Даже этот текст, задуманный как короткая обрисовка аргумента, значительно вырос в объёмах в процессе его рецензирования. Так что тема остаётся предельно открытой для обсуждения. Однако приведённого обоснования достаточно, чтобы объяснить, почему моральный реализм не является очевидно абсурдной или неуместной позицией.
Примечания
[1] Моральным антиреализмом, соответственно, можно назвать любую позицию, которая отрицает какой-либо из компонентов этого определения. Моральные субъективисты считают, что моральные суждения выражают субъективные установки отдельных людей, а не объективные факты или свойства мира. Сторонники метаэтической теории ошибок признают, что моральные суждения выражают факты, но при этом отрицают существование каких-либо моральных фактов и на этом основании заключают, что все моральные суждения являются ложными или ошибочными. Моральные нонкогнитивисты же отрицают, что моральные суждения вообще могут быть истинными или ложными, поскольку для них моральные суждения выражают скорее эмоции или повеления.
[2] Ранжирующая позиция является «патерналистской» ещё и в том смысле, что как ответ на случай Билли она предполагает, что на свете нет людей, которые хотели бы стать пьяницей. Возможно, в мире действительно нет тех, кто думал бы о своём будущем как семилетный Виталий из социальной рекламы, мечтающий «спиться и умереть от пьянки». Но есть некоторая разница между просто отсутствием желания стать пьяницей и актуальным желанием избежать участи пьяницы. И если первое, вероятно, действительно присуще всем людям, то относительно универсальности второго желания есть разумные сомнения.
[3] Подобная логика может быть применена и к менее специфичным ситуациям, чем жизнь в секте амишей. Например, так ли много вчерашних школьников, поступая в вузы, принимает решение о выборе будущей профессии, основываясь на полностью информированном представлении о специфике их будущей работы и реалиях рынка труда?
[4] Подобный вывод даже не является чем-то немыслимым для истории философии. Различные философы прошлого действительно отстаивали нечто, вроде этики абсолютного эгоизма. Самый известный пример — немецкий анархо-индивидуалист Макс Штирнер; менее философский, но более популярный в массовой культуре — французский аристократ маркиз де Сад. Подобные моральные теории часто характеризуются как «имморализм» и «отрицание морали как таковой», однако не стоит обманываться критическими выпадами указанных философов против того, что они сами называют «моралью». Штирнеровский имморализм носит вполне отчётливый нормативный характер, так что его критику следует читать не как полное отрицание морали, а скорее как критику альтернативных моральных позиций со стороны его этики абсолютного эгоизма. В этом смысле Штирнер, как ни странно, оказывается вполне моральным реалистом и даже перфекционистом. При этом стоит отметить, что не любая эгоистическая моральная теория будет попадать в описанный нами кластер «этики хищничества». Так, объективизм Айн Рэнд, хоть и основывается на эгоизме, но ограничивает реализацию личной выгоды рамками, которые задаёт принцип неинициации силы.
[5] Здесь мне могут возразить, что моё обоснование, основанное на содействии человеческому благополучию, является консеквенциалистским, а потому противоречит теории естественного закона. Я готов согласиться в том, что описанная моральная теория является формой плюралистичного консеквенциализма, но должен сделать пару оговорок о его согласованности с теорией естественного закона. Во-первых, часто о фундаментальном противоречии между консеквенциализмом и естественным законом говорят, имея в виду, что естественный закон «по умолчанию» относится к деонтологической этике, которая рассматривает права и обязательства как аналитически предшествующие понятию блага. Это верно в отношении некоторых теорий естественного закона, таких как кантианская этика, но неверно в отношении наиболее показательных и влиятельных форм этой концепции, таких как учения Аристотеля и Аквината. Две последние вместе с консеквенциализмом попадают в множество т.н. «телеологических этик», которые рассматривают благополучие как предшествующее и обусловливающее нормы морали. Во-вторых, главная проблема большинства теоретиков естественного закона с консеквенциализмом в том, что последний, как полагается, опирается на агрегацию благополучия. В той мере, в которой агрегация является центральным отличительным свойством любого консеквенциализма, описанное мною обоснование не является консеквенциалистским. Если же даже ограниченная агрегация является признаком консеквенциализма, то практически любая моральная теория, включая кантианские позиции (такие как контрактуализм Томаса Скэнлона или пороговая деонтология Майкла Мура), будет формой консеквенциализма, что делает этот термин избыточным. В-третьих, для того, чтобы какая-то теория соответствовала концепции естественного закона в минимальном смысле, достаточно, чтобы эта теория признавала: 1) объективную мораль, 2) нашу способность познавать эту мораль с помощью разума и 3) возможность сформулировать некоторый набор общих моральных правил, по крайней мере prima facie. Я думаю, описанное мною обоснование соответствует всем трём критериям, хотя это будет верно и в отношении многих других форм консеквенциализма правил. При этом я признаю ограниченный моральный партикуляризм, то есть считаю, что в исключительных обстоятельствах требования морали может быть проблематично сформулировать как набор общих правил, но это не является аргументом в пользу того, что мораль в принципе не состоит в следовании общим правилам за пределами таких пограничных ситуаций. И даже в пограничных ситуациях общие правила формируют практические ориентиры, необходимые для принятия морально правильного решения.
[6] Мимоходом заметим, что в большинстве таких постапокалиптичных произведений, вроде Fallout или «Безумного Макса», всегда есть локации, в которых люди регулируют свою совместную жизнь с помощью общих правил. Даже в сеттингах тотального упадка, беззакония и морального разложения люди не могут обойтись без таких островков упорядоченности и законности.
