![]()
Филипп Эмануилов рассматривает политическую сторону спекулятивного материализма, объясняя связь Мейясу с философией Просвещения и показывая, почему стоит отказаться от демонизации фанатизма.
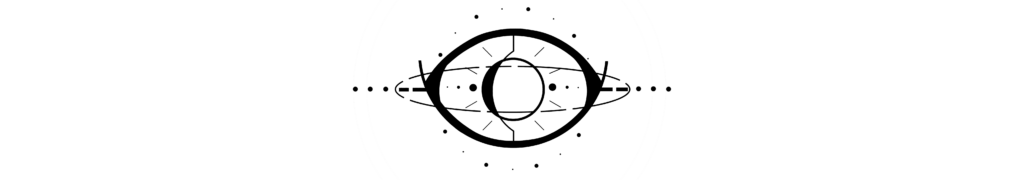
Спекулятивный материализм Квентина Мейясу принято считать аполитичным проектом. Действительно, в эссе «После конечности», главном труде философа, сложно обнаружить политические тезисы, а работы, предметно посвященные политическим вопросам, попросту отсутствуют. Однако на мой взгляд, политические соображения занимают важную роль в обосновании спекулятивного материализма, хотя и не получает достаточной экспликации со стороны Мейясу. Отдельно отмечу, что все дальнейшие тезисы относятся к спекулятивному материализму образца «После конечности». Несмотря на то, что впоследствии Мейясу пересматривал свою позицию, именно эта работа задала импульс спекулятивному повороту, оставаясь конститутивной для этого движения. Перед тем, как перейти к рассмотрению этого политического измерения, необходимо остановиться на общем направлении мысли французского философа.
Стартовой точкой рассуждения Мейясу в «После конечности» является констатация некоторой ситуации, состоящей в том, что всю западную философию, начиная с Канта, можно охарактеризовать как «корреляционизм», под которым понимается «любое направление мысли, которое утверждает непреодолимый характер корреляции»1. «Корреляция» же подразумевает тезис, согласно которому «мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но никогда к чему-то одному из них в отдельности»2.
В «После конечности» аргументация Мейясу в пользу необходимости преодолеть корреляционизм открывается обсуждением двух тем. Первая из них (на которой Мейясу впоследствии также делал акцент в докладе «Время без становления») – неспособность корреляционизма дать удовлетворительное обоснование естественно-научной практике. Речь идет о столкновении науки с «доисторическим» – реальностью, предшествующей появлению человека, через изучение «архи-ископаемого – материального носителя, указывающего на такую реальность. Таким архи-ископаемым может быть, например, палеонтологическая находка, чей возраст превышает все время существования человечества, или же космическое излучение, более древнее, чем любая жизнь. Корреляционизм не удовлетворителен, так как не способен мыслить подобные факты без подмены их буквальной объективности той или иной формой интерсубъективности.
Рассуждение от доисторического вряд ли можно назвать оригинальным: в похожей форме оно высказывалось еще Людвигом Фейербахом, а затем было воспроизведено Владимиром Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме». Фейербах полагал, что именно природа и ее изучение естествознанием «несет крах идеализму» (который, однако, не тождественен корреляционизму по Мейясу3). Естественные науки показывают картину, когда «земля, не была еще предметом человеческого глаза и сознания человека, когда природа была, следовательно, абсолютно нечеловеческим существом»4. В сравнении с Мейясу, аргумент Фейербаха более прямолинеен: вместо указания на архи-ископаемое как след доисторического, он сразу указывает на такое доисторическое или «абсолютно нечеловеческое существо». Несмотря на то, что Мейясу недооценивает работу Ленина, их аргументация схожа.
Несмотря на иллюстративность довода архи-ископаемого, мысль Мейясу на нем не заканчивается, да и сам философ впоследствии не считал его достаточным. Поэтому рассмотрим другую, в чем-то более интересную, линию его внешней критики корреляционизма5 – политическую (политику в данном случае можно понимать в классическом смысле как стремление к участию во власти и влиянию на ее распределение).
Дело в том, что всю посткантовскую корреляционистскую философию Мейясу рассматривает как критику догматизма – позиции, постулирующей необходимое существование некоего сущего (идеи, атома, мирового духа, бога и проч.). С одной стороны, эта критика носила освободительный характер – она способствовала критике идеологии. Ведь идеология, согласно Мейясу, совершает тот же ход, что и догматическая метафизика – принимает контингентное за необходимое. Отсюда следует, что критика идеологии «сущностно совпадает с критикой метафизики, понимаемой как производство иллюзорных необходимых сущих»6. А поскольку идеология выступает идейным оправданием тех или иных властных отношений, постольку ее критика является политическим жестом.
С другой же стороны, критика догматизма, в конце концов, выродилась в губительную форму скептицизма, обозначаемой Мейясу как фидеизм. Речь о нем пойдет далее. Сейчас лишь важно подчеркнуть, что нежелательным политическим следствием фидеизма стала неспособность противостоять фанатизму. Но что такое фанатизм? Несмотря на важность этого понятия для критики корреляционизма в «После конечности», оно не получает достаточной экспликации. Постараемся прояснить понятие фанатизма, а также показать его связь с политическим.
Фидеизм, фанатизм и (ир)рационализм
Фидеизм понимается Мейясу в качестве «скептической аргументации против притязаний метафизики и рациональности в целом на доступ к абсолютной истине, способной укрепить (a fortiori дискредитировать) ценность веры»7. Упрощая, можно определить фидеизм как философскую позицию, отрицающую возможность рационального познания абсолютной истины. Показательно что самое слово «фидеизм» производно от слова «вера» и может отсылать к протестантской формуле «sola fide», закрепляющей возможность спасения исключительно за личной верой, не обязательно подкрепленной добрыми делами.
Как уже было отмечено, порочность фидеизма обосновывается его неспособностью противостоять фанатизму. Но что же понимается под фанатизмом? Позволю себе привести пространную цитату, в силу ее первостепенной важности для дальнейшего анализа: «Борьба против того, что просветители называли фанатизмом, также целиком превратилась в морализацию: осуждение фанатизма производится лишь на основании его практического (этико-политического) влияния и никогда – во имя предположительной ложности его содержания… Отсюда бессилие тех, кто критикует современный обскурантизм с точки зрения морали, потому что если ничто абсолютное не мыслимо, то ужаснейшее насилие может быть оправдано исходя из трансцендентного, доступного лишь немногим избранным»8 (курсив мой – Ф.Э.).
Мы видим, что в своей трактовке фанатизма Мейясу сознательно наследует просвещенческой традиции. Поэтому для уточнения обратимся к ней . Парадигмальная для французского Просвещения трактовка фанатизма принадлежит Вольтеру. В своем «Философском словаре» он дает следующую характеристику этому феномену: «фанатизм для суеверия то же, что бред для лихорадки и ярость для злости»9. При этом Вольтер различает фигуры энтузиаста, попросту принимающего свои фантазии за реальность, и фанатика, подкрепляющего свою глупость насильственным действием. Ту же картину мы видим и в «Трактате о веротерпимости», где фанатизм противопоставляется разуму и понимается как синоним переросшей в насилие нетерпимости10. Таким образом, схема иррациональность-фанатизм-насилие перенимается Мейясу у просветителей.
Какими же средствами должна вестись борьба против этого фанатизма? Ведь как мы помним, Мейясу обвиняет фидеизм именно в неспособности «дисквалифицировать иррациональный дискурс об абсолюте только на основании его иррациональности»11. То есть борьба с фанатизмом, дисквалификация легитимирующего его дискурса – вопрос для политичекого измерения спекулятивного материализма отнюдь не второстепенный. Но что конкретно понимается под дисквалификацией дискурса? Мейясу не поясняет эту формулировку, что на мой взгляд, не свидетельствует о небрежности ее автора, но маскирует более глубокое напряжение в просвещенческой трактовке фанатизма.
Вновь обратимся к XVIII веку. «Трактат о веротерпимости» в качестве противоядия от фанатизма предлагает философию: постепенно просвещая публику, она должна, в конце концов, искоренить фанатизм. Однако наравне с такой миролюбивой позицией Вольтер высказывает и другие идеи. Так, в письме Жану Д’Аламберу от 1767 г. философ выражает радость по поводу того, что Екатерина II послала в Речь Посполитую «сорок тысяч русских проповедовать терпимость штыками своих винтовок»12. Речь в данном случае идет о т.н. диссидентском вопросе — проблеме дискриминации некатолического населения Речи Посполитой. Диссидентский вопрос был использован Российской империей в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела, а впоследствии и раздела польско-литовского государства. Возвращаясь к Вольтеру, ответ на насилие, оправданное религиозной нетерпимостью и суеверием, мыслитель видит в насилии же, но направленном на его искоренение.
Можно увидеть, что Просвещение, одной рукой осуждая нетерпимость, другой – восстанавливает ее в правах, пусть даже под предлогом нетерпимости к нетерпимости. Эту тенденцию можно наблюдать и в случае Александра Делейра – писателя и переводчика, друга Жан-Жака Руссо, а также автора статьи о фанатизме в «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана Д’Аламбера. Его определение фанатизма синонимично вольтеровскому: фанатизм есть «суеверие, превратившееся в действие»13. Как и у Вольтера, оценка Делейра также состоит в полном осуждении фанатизма и проповеди терпимости: «прошу вас, немножко больше терпимости и сдержанности!»14. Но несмотря на все это, отчетливо прослеживается намерение использовать фанатизм как средство против него самого: «Весь яд фанатического рвения должен быть направлен против тех, кто верует, но поступает не так, как того требует вера»15. Как показывает исследователь фанатизма Альберто Тоскано, наибольшее выражение эта тенденция получила у Руссо, который даже был готов при необходимости рассматривать фанатизм как средство ревитализации государства16.
Таким образом, анти-фанатичный, на первый взгляд, разум просветителей не порывает с фанатизмом до конца, оставляя за собой возможность его использования при необходимости. Необходимость же эта возникает, когда иррационалистический дискурс (и обосновываемая им фанатическая практика) становится полностью замкнутым на самого себя и невосприимчивым к просвещению разумными доводами. В этом случае сам фанатизм как бы просвещается, становясь нетерпимостью, основанной на разуме.
Симптоматично, что именно этот смысл стали вкладывать в понятие фанатизма многие консервативные авторы после Великой французской революции. Якобинский террор представлялся ими как следствие абстрактного и слишком универсализирующего разума17. Представление о фанатизме как о недостатке разума сменилось представлением о нем как об избытке разума, выходе разума за свои естественные пределы.
Исходя из этого, можно заподозрить Мейясу в конструировании идеологии в соответствии с его собственным определением идеологии как выдачи контингентного за необходимое. А именно, философ выдает за необходимую связку фанатизма исключительно с иррационализмом (дискурсом «трансцендентного, доступного лишь немногим избранным»). Противник же иррационализма – рационалистический проект18 самого Мейясу – якобы необходимо должен быть и противником фанатизма. То, что обе эти связки, на самом деле, являются контингентными должно быть очевидно после проведенного выше анализа просвещенческой концепции фанатизма: вспомним Вольтера, призывавшего нести терпимость на штыках винтовок. Да и не впадает ли в фанатизм сам Мейясу, стремясь к дисквалификации иррационалистических дискурсов, которая, как мы выяснили, всегда допускает возможность действеннего (силового) запрета?
Но если не иррационализм как таковой, то что тогда является истоком фанатизма, понятого в широком смысле как нетерпимость? На мой взгляд, таким истоком оказывается стремление к абсолютизации мышления, восстановление в правах абсолютной истины. Ведь только этот шаг может обосновать радикальную нетерпимость к альтернативным дискурсам как однозначно ложным. В этом состоит общий знаменатель как иррационализма, осуждаемого Мейясу, так и его собственной концепции. Отличие же между ними состоит в том, что рационализм в этой абсолютизации исходит не из элитарного мистического порыва, а из универсального разума.
Предваряя дальнейшие рассуждения, сформулируем окончательное определение фанатизма, которого будем придерживаться. Я предлагаю не сводить фанатизм ни к недостатку разума в духе просветителей, ни к избытку разума, как это делали консерваторы. Вместо этого, стоит остановиться на минимальном его определении без указания на причины: фанатизм есть радикальная нетерпимость, стремление к дисквалификации определенных дискурсов, в том числе, насильственными методами.
Перспективы спекулятивного материализма
Итак, мы выяснили, что в склонности к фанатизму можно уличить и сам проект Мейясу образца «После конечности», наследующий в этом плане Просвещению. Какие выводы можно отсюда извлечь? Представляется, что в политическом отношении перед Мейясу открываются две возможности. Первая заключается в отказе от политического обоснования спекулятивного материализма, который теперь также скрывает опасность фанатизма. Речь может идти как об оправдании фанатизма естествоиспытателей, так и о собственном фанатизме спекулятивного материалиста, выискивающего и устраняющего любой корреляционизм и иррационализм. Реагируя на рецепцию своей философии, Мейясу действительно во многом пошел по этому пути. Осмелюсь усомниться в его плодотворности, ведь последовательным его завершением стал бы отказ от самого проекта спекулятивного материализма в силу его притязаний на мышление абсолюта. То есть, фактически, спекулятивный материализм, как он был изложен в «После конечности» пришел бы к своему самоотрицанию.
Поэтому перейдем ко второй возможности. Она требует отказа от демонизации фанатизма как такового и поиска альтернативного противника. Вернее, враг может остаться тем же – фидеизм. Необходимо лишь дать альтернативное обоснование его пагубности. Можно попытаться обернуть тезис Мейясу, заявив, что фидеизм плох не тем, что дозволяет фанатизм, а тем, что сам не способен стать фанатичным, обосновать (просвещенный) фанатизм.
Однако почему мы должны отказаться от бесповоротного осуждения фанатизма, хоть и просвещенного, и даже воспринять его как благо? Во-первых, как я уже отметил, дисквалификация иррационалистических дискурсов – изначальная цель спекулятивного материализма – уже является фанатичным предприятием. Во-вторых, под понятие фанатизма подпадает и любая радикальная политика, по определению исходящая из полной нетерпимости к статусу-кво. Из этого вырисовывается и развитие критики фидеизма: фидеизм плох тем, что ведет к отрицанию возможности радикальной политики, основанной на разуме. Совершая атаку на возможности разума познавать истину, фидеизм способен легитимировать лишь иррационалистический фанатизм.
Стоит отметить, что такое отрицание распространилось в различных направлениях социальной философии левого толка и критической теории. Например, в теории Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера в силу ее релятивистского характера практически любое социальное действие, направленное против статуса-кво, может быть изобличено как часть культурной индустрии капитализма и осуждено на этом основании. Таким образом, появляются основания подвергнуть подобные концепции критике в качестве фидеистических. Обезоруживая любые рациональные планы политического переустройства, они оставляют место или для скептической апатии, или же для «политики сердца» — действия, основанного исключительно на эмоциях и аффектах.
Противопоставить им можно такие теории как, например, классический марксизм. В последнем возможность радикальной политики как абсолютной нетерпимости обосновывалась, исходя из мышления абсолютной истины в лице законов исторического развития. Это особенно заметно в случае марксистских авторов, склонных к историческому детерминизму. То, что должно было представляться в качестве немыслимого парадокса в рамках их детерминистических теорий – пространство для активного социального действия – получало непротиворечивый характер.
Так, Георгий Плеханов, объясняя, каким образом исторический детерминизм может сочетаться с активным социальным действием, прямо сравнивает в этом отношении марксистов с сектой христиан-нецессарианцев19, успешно совмещавшей два этих представления20. Кстати, это еще раз доказывает наличие сходств у иррационалистических дискурсов и просвещенных в виде абсолютизации мышления. Различие же между ними состоит в том, что если абсолют неецессарианцев полагался актом веры, то марксисты апеллировали к эмпирическому интерсубъективному знанию об обществе.
Хочу отметить, что непротиворечивость, о которой я писал выше стоит связывать именно с абсолютизацией мышления, а не с диалектическим характером теории Плеханова, позволяющей снимать противоречия в диалектическом синтезе. Ведь Плеханов заимствует данный аргумент у Джозефа Пристли, химика и философа-материалиста XVIII века, ничего гегелевской о диалектике не знавшего.
Разумеется, рассуждения Плеханова и Пристли – лишь частный случай мышления абсолюта в рамках социальной теории, которое совершенно необязательно должно вести к детерминизму. Этим примером я лишь хотел показать, что даже в таком трудном случае для обоснования социального действия, каким является детерминизм, наличие абсолюта позволяет дать такое обоснование. В качестве других иллюстраций мышления абсолюта в рамках социальной теории могут быть названы природа человека, прогресс, классовый интерес, гуманистические ценности и т.д.
При этом возникает подозрение, что все существовавшие до настоящего момента подобные теории ударялись в противоположную крайность – догматизм и становились идеологией. Более того, далеко не все такие идеологии были просвещенными и рационалистическими. Однако отсюда лишь следует, что возможности для спекулятивно-материалистического мышления в политической философии до сих пор не исчерпаны. Поэтому поставим перед ним задачу: сделать теоретический ход, аналогичный проведенному Мейясу в «После конечности». А именно, необходимо ввести в политическую мысль некий «осторожный» абсолют, которого бы хватило для преодоления фидеизма, но не для впадения в догматическую метафизику.
Политическое содержание неотступно следовало за материализмом на протяжении всей его истории. Его противостояние идеалистическим и спиритуалистическим философиям всегда сочитало в себе стремление освободить человека от ложных идолов и позитивное видение того, как все устроено «на самом деле». В XX веке эта связь оказалась разорвана. (Пост)марксистская мысль усердно пыталась откреститься от любой спекулятивной составляющей. В аналитической же философии материализм превратился в чисто дескриптивную аполитичную онтологию. Возможно, именно спекулятивный материализм Мейясу окажется способным объединить эти два осколка старого материализма, сделав его «снова великим»21 (даже вопреки интенциям своего создателя).
Библиография
1. Мейясу К. (2015) После конечности: эссе о необходимости контингентности. М.: Кабинетный ученый. С. 11.
2. Там же.
3. Под идеализмом Фейербах имеет в виду, в первую очередь, позицию Гегеля, которую Мейясу описывает смутным понятием «гипостазирования корреляции».
4. Ленин В.И. (1968) Материализм и эмпириокритицизм / Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 18. М.: Издательство политической литературы. С. 82
5. Под внешней критикой корреляционизма я понимаю указание на неудовлетворительность его следствий, будь то несовместимость с установкой естествознания, или нежелательные политические выводы. Внутренней критикой тогда стоит назвать скурпулезный разбор корреляционизма, проводимый Мейясу далее по тексту с целью прорыва корреляции изнутри.
6. Мейясу К. (2015) После конечности: эссе о необходимости контингентности. М.: Кабинетный ученый. С. 44.
7. Там же, 63.
8. Там же, 65.
9. Voltaire (1802) The Philosophical Dictionary. London : Printed for Wynne and Scholey. P. 162.
10. Вольтер (2005) Философские трактаты и диалоги. М.: Изд-во Эксмо. С. 154, 189.
11. Мейясу К. (2015) После конечности: эссе о необходимости контингентности. М.: Кабинетный ученый. С. 55.
12. Цит. по Toscano A. (2010) Fanaticism: On the Uses of an Idea. London: Verso Books. P. 108.
13. Делейр А. (1994) Фанатизм // Философия в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. М.: Наука. С. 594.
14. Там же, 596.
15. Там же.
16. Toscano A. (2010) Fanaticism: On the Uses of an Idea. London: Verso Books. P. 109.
17. Toscano A. (2010) Fanaticism: On the Uses of an Idea. London: Verso Books. P. xviii-xiv.
18. Конечно, позиция Мейясу не является тождественной классическому рационализму, скажем, картезианскому (хотя в «После конечности» Мейясу часто обращается к фигуре Рене Декарта). Опора исключительно на чистый разум неизбежно привела бы к корреляционизму. Тем не менее, согласно Мейясу чистый разум способен открывать ограниченное число абстрактных абсолютных истин в рамках спекулятивной философии. В «После конечности» философ формулирует две такие истины: принцип необходимости контингентности и вытекающий отсюда закон непротиворечия. Во всех же остальных интеллектуальных операциях, разум всегда опосредован определенными инструментами, такими как математизация (в случае естествознания).
19. Нецессерианцы – христианская секта XVIII в., отрицавшая всякую свободу воли, в том числе, и в нравственных вопросах.
20. Плеханов Г.В. (1948) К вопросу о роли личности в истории. М.: Госполитиздат.
21. Такое видение спекулятивного материализма Мейясу во многом сближает его с современной материалистической диалектикой, представленной Аленом Бадью и Славоем Жижеком.
