![]()
Петр Ильин пытается разобраться, как философия преодолевает картезианскую тревогу, когда возникает антифилософия и почему все это невозможно без категории интуитивной данности.
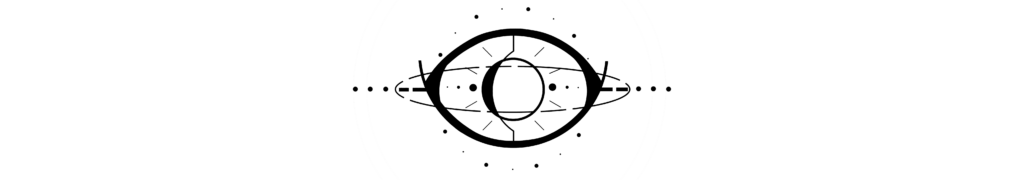
Вероятно, каждый когда-либо сталкивался с тем, как одна искра сомнения охватывала весь дом бытия. Будь то подростковое ницшеанство или рационалистический призыв сомневаться в общепринятом — всё это нередко оборачивается столь сильным подозрением к известным истинам и основаниям, что по итогу кажется, что их и нет вовсе. Войдя в это состояние, человек буквально теряет почву под ногами. И любая попытка выбраться из этой трясины заставляет проваливаться в неё ещё глубже. Нередко, как замечали философы пессимизма и абсурда, следом за тотальным сомнением на плечи тяжким грузом падает ощущение полной бессмысленности собственного существования.
Пожалуй, описанное состояние не случайно связано с философией и никто так часто не сталкивался с ним, как разнообразные философы прошлого и настоящего. Американский философ Ричард Бернштейн в своей работе «Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis» назвал это картезианской тревогой, которая заключается в страхе перед безумием и хаосом, в котором нет ничего фиксированного, а у человеческого бытия нет опоры в виде какого-либо незыблемого фундамента. Избавление от такой тревоги возможно только при условии, что существуют некие надежные и стабильные ограничения, к которым мы можем апеллировать. Иначе это можно назвать онтологической укорененностью, которая является точкой нашего постоянства в изменчивом мире (для Декарта такой точкой было cogito).
Поиск такой укорененности — это, по моему мнению, один из главных мотивов всей философской деятельности наравне с последовательным и в этом смысле тотальным сомнением в различных формах укорененности. В конечном счете, нам же нужны какие-то доказательства прочности обретенных оснований. Подобный философский дуализм составляет немаловажный аспект картезианской тревоги, которая теперь может быть чем-то вроде грозового неба на ясном онтологическом пейзаже.
К онтологической укорененности
Чтобы доказать важность вопроса онтологической укорененности для философии, обратимся к её началам. Так или иначе, именно древнегреческих натурфилософов считают первыми философами практически во всех философских традициях. Данные мыслители впервые начали использовать рациональные аргументы как средство обоснования своей мысли. Именно это отличало «логос» от «мифоса», как пишет Кессиди в работе с более чем говорящим названием — «От мифа к логосу. Становление греческой философии». Именно логос рациональной аргументации стал водоразделом между философией и мифологией. Но каков был мотив первых древнегреческих философов? Натурфилософы, как впоследствии и многие древнегреческие философы полагали, что философия поможет нам познать бытие в его целостности. Ведь стремление к познанию первоосновы бытия есть ничто иное как попытка познать бытие в его целостности. Уже здесь мы обнаруживаем работу над онтологической укорененностью, которая проявляется в различных формах мысли о первоначалах или же платоническом мире идей, которые увязывают все сущее в единую систему. В частности, Аристотель в «Метафизике» считал главным вопросом философии именно онтологический вопрос о бытии, которое, будучи неким единством, должно быть предметом лишь одной искомой науки.
Изначальная нацеленность философии на познание бытия как целого устанавливала границы сомнения, выражающиеся в твердой убежденности в существовании бытия как объекта, однако после поворота, связанного с гносеологией, философия потеряла эти ограничения. В результате единственным критерием стала голая рациональность, удовлетворяющаяся ситуативной непротиворечивостью мысли. Именно здесь философия обнаруживает изъян — склонность к бесконечной рефлексии, не позволяющей полноценно реализовать задачу по поиску онтологической укорененности.
Наиболее последовательно эта склонность заметна в скептицизме, ведь бесконечная рефлексия возможна благодаря тому, что философия всегда оставляет за собой право на акт радикального сомнения. Хотя об этом праве легко узнать и не от скептических философов, а, например, от Бертрана Рассела, который прямо говорил о том, что если в науках имеют место незыблемые основания, то философия затем и нужна, чтобы где-то и незыблемое могло быть проверено на прочность. Отсюда следует и другое отличие от науки: философия накапливает почти все когда-либо поставленные проблемы и задачи, ведь даже самые, казалось бы, старые вопросы могут неожиданно спровоцировать новый виток дебатов. Например, определение личности Джоном Локком стало вновь важным в аналитической философии в связи с вопросом тождества личности, а локковское деление на первичные и вторичные качества оказалось актуальным для спекулятивных реалистов.
Получается, что философские вопросы часто (если не всегда) не могут быть окончательно закрыты, а проблемы решены. В лучшем случае можно провести границу внутри самой философии, чтобы, допустим, сказать, что для средневековой схоластики был решен вопрос о бытии Бога, а в диалектическом материализме снята проблема разницы между философией и наукой. Согласитесь, это далеко не тот смысл решения проблем и ответов на вопросы, о котором идет речь в той же науке. Обращая на это внимание, Витгенштейн считал, что дело не в решении проблем, а в разоблачении псевдопроблем, что является единственной продуктивной философской стратегией. Грэм Харман, ссылаясь на Уайтхеда, считает, что в философии происходит не решение проблем, а отвлечение от одних и переход к другим, что представляет собой интеллектуальную уловку.
Теперь же вспомним о чаяниях онтологической укорененности. Чтобы она была возможна должны существовать определенные конечные основания реальности, на которые могло бы опереться наше бытие. Чтобы познающее сознание не рисковало легко оказаться в состоянии картезианской тревоги — эти основания должны быть познаваемы, должны представать перед нами как очевидная данность, что позволило бы выстроить на её основе здание знания. Очевидной данность является не потому что легко познаваема, а потому что она всегда явлена сознанию как нечто внешнее по отношению к нему (независимое от него, а потому стабильное).
Но что понимать под данностью? На мой взгляд, здесь лучше других подходит концепция «предельной интуитивной данности». Она предполагает базовую реалистическую интуицию, выражающуюся в принятии естественной установки сознания, если использовать терминологию Эдмунда Гуссерля, поскольку признание существования объективной реальности является главным условием веры в существование конечных оснований.
На вере в существование таких оснований базируется видение объективиста, то есть того, кто по Бернштейну убежден, что существует постоянная основа к которой мы можем в конечном итоге апеллировать при определении природы рациональности, знания, истины, реальности, добра или правоты. Объективист считает, что в случае отсутствия такой основы мы не сможем избежать радикального скептицизма. В то же время послание релятивиста, который является антиподом объективиста по Бернштейну, заключается в том, что таких основных ограничений не существует, кроме тех, которые мы изобретаем или временно принимаем. Это означает, что философия в двух своих главных противоборствующих ипостасях объективизма и релятивизма, который в своей крайней форме принимает вид радикального скептицизма, так или иначе отталкиваются от проблемы картезианской тревоги и следующей из нее дилеммы — либо наличие конечных оснований, либо хаос. Объективизму и радикальному скептицизму как двум противоборствующих ипостасям философии соответствует воля к онтологической укорененности и противоположная ей воля к радикальному сомнению.
Итак, поскольку философия, помимо радикального сомнения движима также и волей к онтологической укорененности, а значит и неразрывно связанной с ней волей к истине, она в своих конкретно-исторических формах мечется между объективизмом и субъективизмом (скептицизмом, релятивизмом). При этом в силу противоречия между двумя главными «инстинктами» философии, она никогда не может сохранить статус-кво и прийти к неизменным выводам, как это возможно в науке. Более того ни одна конкретно-историческая форма философии не имеет права на этот статус, поскольку вынуждена в силу невозможности быть поделенной на автономные дисциплины полемизировать со всем актуальным контекстом истории философии, который перманентно расширяется и обязательно включает скептическое направление. Последнее за счёт права на радикальное сомнение постоянно препятствует какой-либо завершенности.
Наиболее выпукло это внутреннее противоречие философии выразилось в картезианском сомнении, мотивом которого являлось именно стремление к избавлению от тоски по онтологической укорененности, но результатом стала бесконечная рефлексия, которую, однако, сам Декарт оборвал, сославшись на инстанцию очевидности самого сомнения, то есть сделав выбор в пользу интуитивной данности. Последний шаг Декарта, с нашей точки зрения, является первым не просто объективистским или реалистическим, но и антифилософским шагом.
Антифилософия и данность
Почему же выбор интуитивной данности — это антифилософский шаг? Как уже было замечено, философия начинается с отделения от мифологии за счет рациональной аргументации, которая впоследствии расходится в двух направлениях: снижающего картезианскую тревогу, объективизма и, повышающего её, скептицизма. Это парадоксальное сочетание, которое не позволяет реализовать волю к онтологической укорененности.
Когда же Декарт выбирает сторону интуитивной данности, то он не отказывает праву на радикальное сомнение, но отказывает радикальному сомнению в праве на рациональную аргументацию, поскольку оно снимается интуитивной данностью мышления. В этом и состоит антифилософский ход — скептицизм просто перестает рассматриваться всерьёз, хотя всё ещё можно сомневаться, но уже на фоне данности, которая развеивает сомнения любой тотальности. Похожий ход мы обнаружим и во многих других направлениях мысли, делающих выбор в пользу какой-то формы данности.
Собственно представление о том, что мир существует независимо от нашего сознания, является по существу первым конечным основанием, на которое опираются другие основания и, соответственно, оно является фундаментальным с точки зрения решения задачи избавления от тоски по онтологической укорененности. Философия, как мы уже сказали также ссылается на инстанцию предельной интуитивной данности, причем делает это также и в момент радикального сомнения, ведь истинность радикального сомнения также предстает перед сознанием в форме предельной интуитивной данности. Это значит, что подвергая всё радикальному сомнению философ, претендуя на истинность этого утверждения, одновременно утверждает объективное существование этой истины, а значит и существование объективного мира, что является первым конечным основанием, на котором основываются все остальные основания. Однако уже на следующем ходу мышления философия снова может подвергнуть сомнению получившиеся выводы, что означает невозможность выхода из сложившегося парадокса. Единственным способом выхода из этого парадокса становится безоговорочный выбор в пользу инстанции предельной интуитивной данности как таковой, суть которой в признании первого основания объективности мира. Этот выбор во многом сродни акту веры, однако отличается от последнего тем, что продиктован осознанием парадокса философии и всей проделанной в связи с этим осознанием рефлексией.
Принципиальное признание объективности существования мира становится основанием для признания повторяемости одних и тех же выводов в качестве главного критерия истинности. Так, в науке, как в наиболее системной форме познания именно сохранение выводов в неизменном виде на протяжении времени является главным критерием их истинности. Поскольку предельная интуитивная данность может не предполагать повторяемости, как в случае данности развертывания философских аргументов, которые никогда не повторяются, нам необходимо ввести здесь различение двух видов данности. Назовем их воспроизводимая и невоспроизводимая предельная интуитивная данность. Достижение знания принципиально возможно только в условиях доверия воспроизводимой предельной интуитивной данности.
Осознание парадокса философии, связанная с ним рефлексия и сам акт выбора в пользу инстанции воспроизводимой предельной интуитивной создают новый фундамент антифилософского сверхоснования. Таким образом, наука и другие формы рефлексии, признающие инстанцию данности, в том числе и философия в отдельных своих проявлениях, основанных на признании инстанции данности, являются частью антифилософии, но не исчерпывают её содержания благодаря наличию части сверхоснования, которое включает в себя элементы объективисткой философии.
Исторические примеры антифилософской критики
Ярким примером антифилософской критики философии является так называемая «нефилософия» Ларюэля. Ларюэль считал, что философии присущ избыток рефлексивности, из-за которого она не способна теоретизировать собственные догматически принимаемые аксиоматические основания, предполагающие мышление через призму бинарных оппозиций. Как пишет Брассье в своей работе «Axiomatic heresy. The non-philosophy of François Laruelle», Ларюэль считает причиной бесконечной рефлексивности философии ситуацию, при которой структура совокупности объясняющих положений философии-эксплананса (так называемое «решение») уже содержится в экспланандуме, то есть феномене, который философия пытается описать и объяснить, что приводит к тому, что мир становится зеркалом философии. Это положение дел с моей точки зрения может быть объяснено и тем, что единственным работающим критерием истинности для философии является логическая непротиворечивость, который будучи примененным к материалу предшествующих философских концепций (а это чаще всего единственный материал данности, с которым имеет дело философия), приводит к бесконечному кругу рефлексии, поскольку полной непротиворечивости при таких условиях бесконечной самоинтерпретации философии достигнуто быть не может.
Можно лишь полностью согласиться с тезисом Ларюэля о присущем философии избытке рефлексивности. Способность философии к рефлексивной трансгрессии любых оснований, то есть к отказу от опоры на предельную интуитивную данность, становится возможной благодаря тому, что философия всегда будет задаваться вопросами, ответы на которые принципиально не могут быть для нее удовлетворительными, поскольку нет тех оснований, которые бы философия могла признать абсолютно достойными доверия. Ярчайшим примером такого акта радикального сомнения, совершаемого философией, является декартовский вопрос о том, что мы можем достоверно знать. Однако Декарт, как я уже сказал, не идет до конца и совершает своего рода уловку, доверяясь инстанции сомнения, то есть предельной интуитивной данности. Несмотря на свою непоследовательность, логика Декарта в вопросе об основаниях нашего знания является воплощением чистой философской логики, которая, однако, никогда не реализовывается полностью в конкретно-исторических формах философии.
Правда, если обратить внимание на сами условия задавания философией вопросов, можно обратить внимание на то, что они ограничены нашими представлениями о мире. Однако, чтобы признать свое наблюдение истинным, нам все же необходимо будет довериться предельной интуитивной данности, поскольку именно она является источником этого наблюдения. Но доверие любой данности не является достаточным основанием, чтобы считать что-либо истиной, по крайней мере в рамках философских критериев истинности. Таким образом, на каждом этапе мышления возникает некая бесконечная череда отсылок другу к другу двух инстанций: предельной интуитивной данности и радикального сомнения.
Таким образом, философия, несмотря на свое стремление разорвать связь с предельной интуитивной данностью через совершение акта радикального сомнения, все же постоянно отсылает нас к ней. Но отсылает либо в силу своей непоследовательности и нарушения описанной нами философской логики в чистом виде, либо отсылает в силу содержания в философском вопрошании и, следовательно, в акте радикального сомнения имплицитно скрытых черт наших представлений о мире, то есть предельной интуитивной данности, которые выражаются в мотиве поиска онтологической укорененности. Это показывает непоследовательность самой философии, которая всегда так или иначе обращается к данности, используя этот материал для построения концепций там, где это удобно.
Второй вариант обращения к данности встречается значительно реже, однако он всегда находится в запасном арсенале философии. В целом к нему философия прибегает в моменты парадигмальных сдвигов, которые всегда максимально произвольны в том смысле, что могут полностью игнорировать всю предыдущую философскую традицию, что отражает суть логики акта радикального философского сомнения, описанную мной выше. Яркими примерами таких сдвигов является уже приведенная мной в качестве примера философия Декарта, а также появление аналитической философии.
Другим примером антифилософской критики является концепция метаязыка Витгенштейна. Антифилософия, как я уже писал, не сводится к содержанию предельной интуитивной данности, а предполагает некую надстройку в виде метафилософских рассуждений. Это позволяет говорить об антифилософии как о метатеории, которая по аналогии с метаязыком Витгенштейна стремится отменить и саму себя, запретив все «метафизические спекуляции», после собственных метафизических спекуляций, коими являются элементы метафилософии, не вписывающиеся в рамки реалистической интуиции и интуиции возможности познания истины, а значит и данности как таковой. Такой ход действительно сродни знаменитой «лестнице Витгенштейна», которая существует для того, чтобы в конечном итоге быть поднятой.
Об этом прыжке веры антифилософии писал Борис Гройс в работе «Введение в антифилософию», который предполагает отказ от критической позиции в пользу изменения мира. По мнению Гройса позиция критики и созерцания носит в конечном счете потребительский характер, что превращает истину в товар. Единственный способ избежать коммерциализации истины в этих условиях — это отказаться от процедуры проверки и брать все, что подвернется под руку, то есть сразу начинать практиковать, а не подолгу проверять, предлагаемую на всеобщем рынке истин. Такое понимание, как пишет Гройс, приводит к появлению антифилософии, начало которой по его мнению положили Маркс и Кьеркегор, предложив вместо критики приказ, целью которого является изменение мира, а не его объяснение. Однако, если по Гройсу антифилософия теряет любое мерило истинности, кроме самого решения изменить мир, предшествующего какой-либо критической позиции, то в моем понимании антифилософия, помимо прыжка веры в виде решения изменить мир, может опираться на инстанцию предельной интуитивной данности.
Истина как данность
Итак, истина всегда есть нечто, что познается как некая данность. Это означает, что существует то, что мы называем пределом рефлексивной прозрачности, который предполагает, что так или иначе в процессе интерпретаций реальности мы подойдем к моменту полноты этих интерпретаций и упремся в некое твердое основание данности. За пределами данности невозможно объяснение, но она сама является основанием для последующих объяснений, что означает появление предела рефлексивной прозрачности. Признание по сути своей ангипотетического в трактовке Мейясу принципа предельной интуитивной данности как критерия истинности не предполагает вульгарного представления логического позитивизма о том, что научные теории являются совокупностью суждений, сводимых к так называемым протокольным предложениям. Признание данности предполагает представление о том, что всегда есть некий вектор герменевтических интерпретаций реальности, который с каждым новым герменевтическим кругом интерпретации приближает нас к познанию реальности через столкновение с предельной данностью, которая познается уже исключительности интуитивно. Таким образом, единственным способом удостовериться, что ты продвинулся в сторону истины является многократная повторяемость одних и тех же выводов, связанных между собой и логически непротиворечащих другу другу, что соответствует когерентной концепции истины. Именно этому критерию не соответствует философия, которая за свою более чем двухтысячелетнюю историю не смогла произвести ни одной теории или даже суждения, которое было бы столь несомненно, что разделялось бы всем философским сообществом. Безусловно это не относится к тем случаям, когда философы опираются в своих рассуждениях на данность в чистом виде без примеси «метафизических», то есть оторванных от данности рассуждений.
Истина может и не существует в виде неких абсолютных и не подвергаемых сомнению утверждений, однако она всегда выступает в качестве определенной идеальной модели рациональности для всех исторических форм рациональности. Для иллюстрации того, как работает истина хорошо работает пример Патнэма, в котором он уподобляет эпистемологически идеальные условия плоскостям без трения: мы никогда не сможем создать такие плоскости, но, снижая коэффициент трения, мы постоянно к ним приближаемся. В итоге положение дел заключается в том, что, как писал Патнэм в «Разуме, истине и истории», «предпосылкой самой мысли является существование некоторого вида объективной “правильности”».
Истина как идеал воплощается как в интуиции научного сознания, так и в интуиции обыденного сознания, а эти интуиции тесным образом связаны с реалистической интуицией, то есть представлением о том, что существует отношение соответствия между мышлением и реальностью, где истина понимается как такое соответствие. Реалистическая интуиция отчасти свойственна и философскому сознанию, подтверждением чего является непреходящая значимость темы онтологии для философии. Так, Рикер комментируя в работе «Живая метафора» стремление Аристотеля познать бытие с помощью искомой науки, приходит к идее того, что эта наука может быть структурирована только формой вопроса, в результате чего мы имеем диспропорцию между идеалом и реальным анализом, выраженную в семантической интенции, на основе которой можно искать нечто вроде неродового единства бытия. Однако философия следует реалистической интуиции не до конца, подменяя данность, то есть «реальное» в терминологии Ларюэля, интерпретациями себя самой. Таким образом, из признания предельной интуитивной данности наряду с признанием когерентной концепции истины необходимым образом следует и признание истины как соответствия, что в свою очередь предполагает признание существования объективной реальности, то есть реальности, независимой от сознания.
Концепт данности не отрицает научные методы, но все же подчиняет их интеллектуальной интуиции как некой универсальной форме схватывания данности. Все попытки установить четкие методологические критерии, ярким примером чего является попытки вывести научные критерии истинности, так или иначе производны от интуитивного способа выведения знания из простых фактов данности. Хорошее обоснование нашего тезиса приводит Грэм Харман, когда говорит о том, что ученому для того, чтобы получить достоверное знание с помощью научного наблюдения или эксперимента, для начала нужно уметь четко идентифицировать тот или иной научный инструмент, различая его как отдельный тождественный самому себе во времени объект. Ученый должен довериться собственному переживанию тождественности во времени феноменальных объектов, как это в свою очередь делает Гуссерль. Последний использует тот же критерий тождества, который вынужден использовать любой ученый. Ученый, также как и Гуссерль опираются на веру в свой непосредственный опыт, которая предполагает, что тот или иной научный прибор тождественен тому, за которым они следили пять секунд назад, хоть теперь он и выглядит немного иначе. То есть наука и специальные научные методы базируются на интуитивном схватывании данности. Этот же аргумент можно применить и по отношению к философии, которая также невозможна без первоначальной способности человека различать такие объекты, как книга, текст, слова и буквы. Но интеллектуальная интуиция значительно шире, чем научная оптика, что позволяет исследовать те сферы предельной интуитивной данности, которые невозможно исследовать естественно-научным способом, вроде областей эстетики, этики или социального действия.
Парадокс антифилософии
Положение философии можно трактовать двояким образом. Мы можем как сказать, что ее нельзя преодолеть в силу бесконечного характера акта радикального сомнения и непрекращаемой самореференции, так и утверждать, что философия всегда опровергает саму себя и естественным образом порождает антифилософию. Так, философия всегда обречена совершать перманентное перформативное противоречие, даже когда утверждает невозможность существования истины, ведь утверждение об отсутствии истины также претендует на то, чтобы быть истиной.
В философии обнаруживается интенция, которую она сама же не способна оправдать. Эта интенция есть установка на познание истины и она, наряду с интенцией радикального сомнения, является частью философской рациональности, которая также есть часть предельной интуитивной данности как последней инстанции истинности в рамках антифилософии. Таким образом, инстанция данности является тем, с чем философия все время стремится разорвать связь, но никак не может этого сделать. В свою очередь антифилософия, как и наука стремится эту связь сохранить, однако в отличие от последней берет от философии ее радикальный критический пафос, выражающийся в абсолютном и тотальном сомнении, нелегитимность которого вовсе не очевидна. И все же приверженность антифилософского способа мышления инстанции данности позволяет говорить об особом типе реализма — антифилософском реализме, суть которого заключается в принятии реалистической установки сознания как результата отрефлексированного парадокса философии, описанного выше. Ведь он раз за разом приводит радикальное сомнение к осознанию необходимости разорвать этот порочный круг и утвердить реалистическую картину мира, признающую существование последнего независимо от сознания, как безальтернативную.
Важно подчеркнуть, что антифилософия вынуждена признать правомерность тотального философского сомнения и в этом ее принципиальной отличие от науки или религии. Действительно, нет ни одного однозначного аргумента против этого сущностного акта философии, если исходить из философской рациональности, которая есть простейший из типов рациональности, поскольку опирается на один единственный критерий истинности — логическую непротиворечивость, который также обязателен и для других типов рациональности, но не является единственным для них. Ведь подвергнуть сомнению в принципе можно любое основание и любое суждение, если не доверять предельной интуитивной данности как последней инстанции истинности. Но в таком случае и сама необходимость рациональности также может быть подвергнута сомнению в философии, что уже естественно происходило в ее истории. Например, в случае философии Жиля Делеза, но это сомнение все равно является частью философской рациональности, так как подчиняется критерию непротиворечивости, то есть мы имеем дело здесь с перформативным противоречием.
Самое важное, что по большому счету единственным основанием для того, чтобы предпочесть философской рациональности научную или постулируемую нами антифилософскую, является ссылка на предельную интуитивную данность как последнюю инстанцию истинности. В этом смысле Ларюэль как мне кажется лукавит, когда отказывается называть свой проект метафилософским, но при этом приводит некие аргументы против философии, помимо ссылки на данность или на «реальное» в его терминологии. Другое дело, что его аргументы, как и мои описания соотношения философии и антифилософии тоже можно считать частью реального как такового, на которое мы просто ссылаемся. Но подвергнуть эти аргументы и описания сомнению для философии не составляет никакого труда, а тем самым и продолжить череду бесконечной рефлексии. Это по большому счету и происходит с концепцией Ларюэля, которая также, как и любая концепция, не выдерживает под натиском радикального акта философского сомнения. Не избегает подобной судьбы и наш проект антифилософии. О неминуемости подобной судьбы всех антифилософских проектов говорит Деррида в своей работе «Об апокалиптическом тоне, принятом недавно в философии», где он высказывает мысль о том, что любой разговор о конце философии является лишь формой ее интенсификации.
Получается, что мы находимся в довольно странном и парадоксальном положении — с одной стороны очевидно, что единственным способом продвинуться на пути к истине является опора на предельную интуитивную данность, с другой стороны правомерность опоры на эту инстанцию не вполне очевидна и может быть подвергнута сомнению, что философия и делает. Непротиворечиво разрешить этот парадокс представляется едва ли выполнимой задачей. Но антифилософия, осознавая этот парадокс, вынужденно не стремится к непротиворечивости, поскольку это тупик, ведь процесс сомнения и самоопровержения будет бесконечным, хотя и этот последний тезис можно подвергнуть сомнению.
Антифилософия также есть, по сути, акт перформативного противоречия. Как и любая рациональность она изначально стремится к непротиворечивости, но по ходу развертывания своей логики приходит к необходимости отказаться от попытки быть полностью непротиворечивой. Тем не менее разница между антифилософией и философией существует и заключается в том, что антифилософ осознает всю парадоксальность сложившейся ситуации, осознает свою собственную ограниченность, вытекающую из парадокса непротиворечия (и это очень созвучно идее «абсурда» у Альбера Камю). Такова же разница и с наукой, которая в этом плане еще более ограничена, чем философия и принципиально не способна свою ограниченность осознать. Кроме того, что важно — использование аргумента о перформативном противоречии уже предполагает опору на ту самую данность, как и сам акт радикального философского сомнения как я уже показал также имплицитно опирается на данность.
Таким образом, мы имеем дело с парадоксом, где сочетаются процесс бесконечной референции друг на друга инстанции очевидности и радикального философского сомнения, то есть замкнутый круг. Выходом из этого круга становится отказ от рациональности для обеспечения ее же торжества, который предлагает антифилософия. Однако и этот ход в свою очередь обречен на повторение этого парадокса в силу того, что также опирается на предпосылку рациональности, поскольку мы пришли к необходимости отказа от рациональности рациональным же путем. Но опять же, принципиальное новшество этого хода — осознание неминуемости парадокса, на повторение которого обречено человеческое мышление. В конечном счете мы просто стоим перед выбором -—доверять ли всегда инстанции предельной интуитивной данности (нашей интеллектуальной интуиции) или нет. И антифилософия предлагает ответить на этот вопрос утвердительно. Из признания инстанции данности в качестве последней инстанции истины следуют все остальные выводы, главным из которых является вывод о существовании объективной реальности.
Другим выводом является признание бесплодности попыток философии привести к истине и произвести знание. Признание данности в качестве последней инстанции истины становится основанием для выведения всего остального знания о мире, главным из которых является знание того, что этот мир существует. В свою очередь знание о том, что попытки философии произвести знание бесплодны также производно от признания данности. Но признание данности — это ничто иное как акт веры, но веры не религиозной, поскольку она все же не основан на полном произволе. Принцип этой антифилософской веры в целом един — это принцип повторяемости одних и тех же выводов, их воспроизводимость во времени, а также непротиворечивость, что во многом соответствует когерентной концепции истины. Кроме того, вера в непосредственный опыт предполагает признание принципа тождества, который выражается в переживании феноменальных объектов тождественными самим себе во времени. Таким образом, здесь мы имеем дело с тем, что можно назвать актом рациональной веры, который становится залогом возможности легитимной опоры на инстанцию предельной интуитивной данности как основы любого типа знания — от научного до этического или эстетического. Так, антифилософская «лестница Витгенштейна» поднимается, чтобы уже больше никогда не быть отброшенной.
