![]()
В теории сильный аргумент должен вынуждать собеседника немедленно сменить мнение по обсуждаемому вопросу, если он не может ответить существенным контраргументом и все еще разделяет конвенции рационального спора. В действительности такие ситуации остаются редкостью даже среди философов. Вместо того, чтобы обрадоваться, открывшейся посредством мощных аргументов, истине, люди зачастую испытывают заметное неудовольствие, когда оказываются в положении, в котором их принуждают изменить свою точку зрения.
Роберт Нозик оказался тем, кто напрямую признал такое рациональное принуждение проблематичным, но и не отказался от аргументации, выступив за реформу практики доказательства в философии. О том, почему аргументация должна объяснять, а не доказывать — в статье Алексея Кардаша.
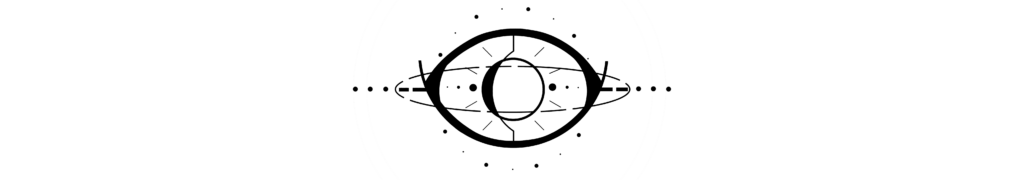
С именем Роберта Нозика связана идея, которая на первый взгляд может прозвучать вызывающе – уже вначале «Философских объяснений» он критикует принудительную силу аргументации и выступает за реформу практики доказательства в философии. Такие предложения больше ассоциируются с эпистемологическими релятивистами, отрицающими всякого рода истину или выражающими скепсис к попыткам её достигнуть. Нозик же обращает внимание на сложившиеся в современной философии процедуры обоснования и доказательства, которые угрожают автономии индивида. В более широком смысле он показывает, что у сложившегося способа аргументации есть нежелательные следствия, которые мешают нам в приращении знания и достижении истины.
Замечу, что рациональная полемика и дискуссия, по крайней мере как некоторые идеалы коммуникации, понемногу занимают свой сегмент в сфере интеллектуального контента среди уже привычного просветительства и развлекательной философии. Ввиду этого мне кажется важным не только изложить идею Нозика, но и отчасти модифицировать, чтобы охватить больше ситуаций аргументации, а не только те, которые имеют место в академической философии.
Опаляющий свет истины

В аргументации, понятой Нозиком как последовательность обоснованных и подкрепленных шагов от посылок к заключению, обнаруживается два момента связи с принуждением. В первую очередь философ предлагает обратить внимание на вокабуляр, в рамках которого у аргументов есть сила, а лучшие из них называют в английском языке «нокаутирующими». Если вы согласны с предпосылками, то должны и обязаны согласиться и с конкретными выводами. Незначительность некоторых аргументов на английском можно выразить фразой: «some arguments do not carry much punch». Как пишет Нозик, философский аргумент – это попытка убедить кого-то в чём-то вне зависимости от его желания быть или не быть убежденным. Сильный аргумент принуждает философа принять некоторое убеждение взамен своего былого мнения, либо получить ярлык «иррационалиста» или «обладателя слабых аргументов». Так или иначе, по видению Нозика в аналитической традиции статус философа зависит от качества его аргументации.
Другой момент принудительности состоит в представлении о том, что истина должна сопровождаться неопровержимыми доказательствами. Нозик про это прямо не говорит, но определенно знает, что сама истина оказывается в некотором смысле достаточно суровой концепцией. Стоит вспомнить хотя бы о том, что уже Парменид разделял путь разума, ведущий к истинам, и путь чувств, ведущий к ошибкам. Истинное знание оказывается выше всякого мнения или чувства.
Если же обратить внимание на стандартные теории истины, то они также в некоторой степени бескомпромиссны: либо убеждение истинно, либо является ложной фантазией, не отсылающей к фактам; либо идеи истинны, либо представляют собой несвязное и некогерентное теоретическое построение; либо мнение истинно, либо от него нет никакой пользы. Философская аргументация предполагает строго ограниченный набор сценариев: либо проследовать к определенным выводам, либо привести собственные контраргументы, либо остаться по ту сторону истины с заслуженным ярлыком обскуранта. Первую ситуацию Нозик считает формой принуждения (ибо нет альтернативы, чтобы проигнорировать хорошую аргументацию без урона для репутации), а вторую своеобразной самообороной или, как он иронизирует, интеллектуальным айкидо.
Из признания авторитета истины следует самопринуждение, которое многие философы считают допустимым и обоснованным (все мы помним, что «истина дороже дружбы»). То есть, если кто-то показывает и тем самым доказывает истинность некоторого суждения, то он принуждает собеседника проследовать к определенному выводу. Вполне понятно, что в арсенале мыслителя необходимо находится некоторое количество инструментов для критики и анализа доводов, но, как замечает Нозик, идеальный аргумент не оставляет иного выхода. Тем самым, чем сильнее наши аргументы, тем большим принуждением к истине они сопровождаются.
Стоит заметить, что внутри философии существуют мыслители и направления, которые достаточно явно протестуют против принуждения истиной. Например, ссылаясь на важность экспликации дисциплинарной власти, поклонники Фуко могут вслед за ним заниматься «аналитикой истины», выясняя в чьих интересах и по чьим правилам производится истина. Точно также некоторые, инспирированные психоанализом, философы могут критиковать дискурс университета, акцентируя внимание на том, что к истинам всё-таки принуждают конкретные люди. В более слабой форме о похожем говорит и Макинтайр, когда заявляет о существовании различных рациональностей.
Эти позиции объединяет то, что они похожи на формы того, что Нозик метафорически называл интеллектуальной сатьяграхой (слово означает идею ненасильственного сопротивления у Ганди; один из вариантов перевода с санскрита: «упорство в истине»). Отказываясь от прямой контраргументации, сторонники таких позиций обращают внимание других на возможное (или действительное) внерациональное принуждение, которое сопутствует аргументам оппонентов. В минимальном смысле речь здесь о том, что истины обычно сами к себе не принуждают. Забавно заметить, что именно философская сатьяграха бывает достаточно воинственной – стоит вспомнить хотя бы то, насколько сильно некоторым любителям левых интеллектуалов нравится идея того, что оппонента можно победить, не критикуя его аргументы, а разоблачая производственные отношения, стоящие за ними.
Несмотря на то, что впоследствии Нозик признавал созвучность своих идей именно некоторым взглядам Фуко, он всё-таки не предлагает существенного разрыва с привычными и проверенными аргументативными практиками. Для него важно не только обратить внимание на проблему, но и предложить способ решения.
Доказательство и объяснение

В ситуациях обычного общения мы часто приводим аргументы для того, чтобы доказать собеседнику истинность конкретных суждений, не оставляя ему альтернатив, кроме как подчиниться успешному аргументу. Нередко такой подход ведёт к тому, что оппонент может воспринять происходящее как давление, занимая соответствующие реактивные установки (обида, раздражение, злоба). В то время, как по идее, в рациональной дискуссии к аргументам стоит занимать только объективные установки (отмечать их качество, удачные и неудачные стороны).
С одной стороны, здесь можно сказать, что в случаях, когда оппонента эмоционально реагирует на доводы, аргументация не причем и все дело в психологии. С другой же стороны, здесь есть, хоть и широкий, но чисто аргументативный вопрос: какой элемент аргументации привел к реактивной установке? Можно ли сделать такую ситуацию менее вероятной именно на уровне аргументации?
Вышеописанный случай говорит нам о том, что есть вероятность, что вместо того, чтобы воспринимать аргумент в его содержательном аспекте человек обращает внимание на элемент принуждения, реагируя на него так, будто бы содержательная сторона аргумента не имеет значения. Принципиально, что оппонент изначально разделял с визави общие основания и не обращался к интеллектуальной сатьяграхе. Тем не менее в какой-то момент люди часто интуитивно готовы встать даже на релятивисткие позиции, говоря о том, что «не нужно навязывать своё мнение». Как контраргумент эта фраза подразумевает уравнивание всех доводов (всё есть равноправное мнение, какими бы основаниями они не сопровождались) и скептицизм насчет возможности обоснования (все обоснования одинаково плохи, а поэтому мнение можно только навязывать). Проще говоря, если бы человек действительно придерживался таких позиций, то он не ввязывался бы ни в какие дискуссии, ведь для него они заведомо бесплодны.
Здесь Нозик схватывает достаточно интересный момент, который касается того, как строится наша коммуникация. Философы, ввиду признания авторитета истины, редко оказываются в ситуациях обиды на доводы оппонента (хотя бывает и такое). При этом многие люди чувствительны к элементу принуждения в аргументации, но далеко не всегда апеллируют к нему. Важно то, что они склонны расценивать принудительность в отрыве от истинности. Условно говоря, для них нет абстрактной истины, которая вынуждает согласиться с ней, а есть конкретный человек, который подталкивает их к выводам в истинности которых они не уверены. Возникает своего рода апория: сильная аргументация подталкивает собеседника к определенным выводам, чтобы понять верность Х, но он не может принять эти выводы, пока не уверен, что Х — верно.
Такая позиция иногда обозначается как эпистемологический эгоизм — представление о том, что только собственные познавательные способности (и ничего более) дают возможность быть убежденным в истине. Позиции и рассуждения других в таком контексте не имеют значения, ведь не являются основаниями для признания истинности утверждений.
Но будет ли ситуация лучше, если собеседник воспримет сильную аргументацию, но только ввиду её принудительного аспекта? В таком случае вместо эпистемического эгоизма мы получим конформизм и ориентацию на «правильные позиции» (например, человек знает, что моральный реализм в этике сегодня считается хорошо обоснованной позицией, но с трудом может привести пример хорошего обоснования этой позиции). Наверно, в каких-то аспектах такой вариант развития событий лучше, чем игнорирование аргументации ввиду выявления в ней принудительной силы. Проблема только в том, что и эгоизм, и конформизм как эпистемические оптики в долгосрочном рассмотрении оказываются не только антиаргументативными, но и антипознавательными тенденциями. В одном случается исключается вероятность полезного участия в познании других, а во втором — самого себя.
Иными словами, как минимум в этих аспектах явный принудительный аспект в аргументации может противоречить её целям в области убеждения и демонстрации истин. Конечно, это менее очевидно в ситуации текстовых споров на фундаментальные темы, но с точки зрения Нозика стандартный подход к аргументации в философии подразумевает воинственный дух принудительности и все те же проблемы. Умеренные дебаты философов-мэтров в такой оптике могут восприниматься как изысканная спортивная дуэль на шпагах – та же схватка, но оформленная прилично.
Не отказываясь от достижений философской аргументации, Нозик размышляет над тем, что в ней можно реформировать, чтобы избежать нежелательных следствий и продвинуться к большему плюрализму. Стандартный подход он связывает с пониманием аргументации как доказательства, которое имеет своей целью демонстрацию истинности некоторого суждения. В противовес этому Нозик предлагает обратиться не к доказательству, а к объяснению, которое призвано сподвигнуть собеседника к альтернативным мнениям. Происходит перенастройка аргументации, где важным оказывается то, какие факты, теории и объяснения ведут нас к некоторому убеждению Х? С точки зрения Нозика истинность Х дедуктивно-номологически зависит от объяснительных гипотез, раскрытие которых не является прямым доказательством Х.
Объяснить – значит показать, каким образом нечто может быть истинным, каким путём мы можем к этому прийти. Как формулирует Нозик, вопрос в том: «Как возможно, что Х?». И чем больше объяснительных гипотез у нас имеется, тем лучше мы понимаем, почему нечто истинно или ложно. Если проще, то наша цель должна состоять не в том, чтобы привести человека к правильным суждениям, а скорее в том, чтобы отвести его от ошибочных позиций. Трудно не заметить в этом параллель принципу максимизации негативной свободы.
Такая идея напоминает позицию, которую отстаивал Куайн в «Двух догмах эмпиризма». С его точки зрения верификации подлежат не отдельные утверждения наук, а науки в целом. Так и Нозик говорит нам о том, что дело не в доказательстве истинности отдельных суждений, а в том, насколько правдоподобны наши объяснительные гипотезы насчет множества суждений. Если оппонент в чем-то неправ, то нужно не только фиксировать этот факт, но и попробовать разобраться с тем, что именно не так в его цепочке рассуждений, в том числе предлагая ее модификации и альтернативные объяснения. Имея на руках различные правдоподобные объяснительные гипотезы, проще не только выбрать, но и увидеть общие пересекающиеся выводы, которые с большей долей вероятности будут истинными.
Как мне видится, время от времени многие философы сами того не зная прибегают для убеждения именно к объяснению, а не доказательству. Приведу собственный пример. Можно встретить людей, которые считают эстетику предельно субъективной областью. Как правило, если познакомить их с несколькими вариантами того, как объясняется противоположная позиция (объяснение эстетических свойств как эмерджентных у Сибли; анализ объяснительной роли эст. суждений у Мазерсила; объяснение эст. свойств через желания у Земаха; разделение на субстантивные и вердиктивные эст. суждения у Зангвилла), то человек некоторым образом меняет свои взгляды. Он может обнаружить, что Сибли и Земах не лишают его тех преимуществ и объяснительных моделей, которые есть уже сейчас (и, так сказать, конвертироваться в эстетического реалиста), либо укрепить собственные объяснительные гипотезы. Так или иначе, учитывая изначальную позицию собеседника, на его взгляды проще повлиять объясняя, как сторонники иных подходов обосновывают важные для них истины.
Множественная реализация истины

Прежде, чем двинуться дальше, стоит прояснить идею, которая комплементарна концепции аргументации как объяснения. Есть существенная разница между тезисом множественной истины и множественной реализации истины. Во втором случае речь о том, что даже если логически истина всегда одна, то практически она проявляется по-разному. Сторонники первого тезиса, чтобы показать, что «всё по-своему истинно и всё по-своему ложно» могут привести такой вопрос: если у нас есть два изображения одного театра (фото и картина), то какое из них является истинным? Но этот пример, как мне кажется, лучше иллюстрирует идеи множественной реализации истины. Её сторонники могут сказать, что и фотография, и картина являются истинными, но различно реализованными изображениями театра (истинными их делает то, что они изображают именно то здание, о котором идет речь).
Совмещая это с идеей Нозика, можно сказать, что нет смысла настаивать именно на определенной реализации истины (конкретном способе объяснения). Куда полезнее сподвигнуть собеседника реализовать её по-своему, ведь различные реализации истины могут иметь различное практическое применение и полезность. Хотя это и не означает, что буквально в каждой сфере человеческого познания возможны и полезны множественные реализации истины. Речь скорее о том, что многие из реализаций могут быть содержательны в различных смыслах, и чем больше таких смыслов, тем шире наши знания. Классический пример здесь – это естественные науки, где химия, биология и физика могут разделять одинаковые истины об устройстве мира, но в различной реализации.
Всё это когерентно и политическим идеям Нозика. Как должно быть устроено общество? Некоторые прагматики и Нозик признают, что возможна различная практическая реализация правильного социального устройства. Дело не в том, чтобы найти единый идеал, а в том, чтобы заполучить в распоряжение целый набор моделей идеальных государств, отдельные институты которых можно будет апробировать на практике.
Аргументация и обыденный язык

У Нозика есть достаточно интересный довод в стиле философов обыденного языка. Он обращает внимание на то, что до философской рефлексии (например, в детстве) английское слово «argument» понимается как агрессивный спор на повышенных тонах. С позиции Нозика обыденное значение этого слова проясняет, что ругань и абстрактные философские дебаты могут сходиться в своих тактических задачах – подавить чьи-то суждения и утвердить свои. Философа озадачивает факт того, что для описания одного из ключевых способов философского познания стало использоваться слово, имеющее такую коннотацию в английском языке. Так или иначе, принудительный аспект аргументации фиксируется уже на уровне языка.
Упоминая аргумент от обыденного языка, Нозик подчёркивает, что вне английского языка слово «аргумент» и сама аргументация могут иметь совершенно иное звучание, не обремененное ассоциацией с принуждением. Конечно, вряд ли в языке, где нет негативной коннотации, дискуссии с необходимостью являются исключительно мирными и благородными. Скорее язык фиксирует отношение к аргументации и степень рефлексии над её различными аспектами.
Ввиду этого интересно, что на русском всё действительно звучит слегка иначе. Есть достаточно слов той или иной степени обсценности для обозначения того, чем люди занимаются, когда агрессивно спорят (ругаются, бранятся), но вместе с тем каждому носителю русского языка вполне ясно, что в такой ситуации не до обмена аргументами. Вместо ассоциации с принуждением «аргументация» на русском языке изначально кажется чем-то более близким академическому дискурсу.
Любопытно, что в нашем интеллектуальном пространстве в качестве претензии чаще звучат не обвинения в слабой аргументации (как это бывает в зарубежной философии), а заявления о том, что у того или иного философа в тех или иных текстах нет аргументов вообще. Подчеркивается, что тем самым он не достигает некого стандарта философского труда, который можно рассматривать всерьёз. Как кажется, именно этот нюанс проясняет разницу, предполагаемую Нозиком: в англо-американском мире аргументация — это то, что происходит с каждым (в том числе и вне философии), а поэтому её можно обнаружить даже у самых смутных мыслителей (если некоторые русскоязычные аналитики могут всерьез говорить о том, что у Деррида нет аргументов, то Джон Сёрл вполне серьёзно разбирал аргументы Деррида); в русскоязычном пространстве аргументация – это не то, что происходит с каждым в обычной жизни (в ней бывают споры), а поэтому бытует мнение, что неким образом можно философствовать даже без неё. Ввиду всего этого складывается ситуация, где аргументация предстает не органоном, а телумом, призванным по случаю поражать оппонентов. Из этого следуют, как частые ускользания от сценария рациональной дискуссии (например, в виде знаменитой апелляции к разнице в аксиоматике, которая возникает после продолжительного обсуждения как спасительный круг, а не вначале как предложение найти общую почву для дискуссии), так и полемика в режиме deathmatch.
Несмотря на безусловно интересную область смыслов, открываемую этим ходом, вполне ясно, что идея Нозика не столь зависима от обыденного языка, как может показаться. Его идею можно воспринять, как две настройки одной и той же модели аргументации. В одном случае мы видим аргументацию как объяснение, которое может учитывать тезис множественной реализации истины (если истина может звучать иначе, то не стоит навязывать собственное звучание). В другом случае мы понимаем аргументацию как доказательство истины (звучание истины единообразно и не терпит отхождений). Помимо очевидных вне-аргументативных резонов выбор между этими настройками происходит прагматически — исходя из того, какая их них будет более убедительной в определенном контексте.
***
Нозик ненароком подталкивает нас к размышлению над достаточно нетипичным аспектом аргументации. Помимо содержания, видимой формы и теоретических следствий у аргумента нередко имеется и что-то дополнительное. Прояснить это нечто можно таким вопросом: какие эпистемические стандарты могут следовать из успешной реализации конкретной аргументации? Удачный аргумент утверждает не только достоверную позицию, но и способы, которыми подобная позиция достигается. Когда мы отстаиваем свои убеждения, то мы также на перформативном уровне отстаиваем и определенный формат спора.
Например, у нашей аргументации часто есть вполне ощутимое звучание – она может быть нигилистической, имеющей своим эффектом унижение одной из сторон; педагогическим поучением; эвристическим рассуждением, преследующим цели не столько убеждения в конкретных выводах, сколько в важности и плодотворности рассуждений на саму тему. Мыслимы и другие вариации. Важно то, что здесь возможны перформативные противоречия – например, если аргументация за некие ценности имеет нигилистическое звучание («если вы не поддерживаете наши ценности, то причина тому – ваша глупость и узколобость»). Что интересней, допустимые и расхожие звучания аргументации по сути задают нормы эпистемических добродетелей или пороков, на которые будут ориентироваться участники некоторой среды. Если успешное доказательство ассоциируется с разгромом оппонента, то участник таких споров имеет мотивацию ориентироваться на умения вроде иронии, позволяющую подчеркивать разрушительный характер своих доводов. Это, конечно, будет способствовать развитию скептической тенденции, связанной с попыткой найти наиболее универсальные способы разгрома оппонента, но в итоге на ней всё и закончится. Ведь самыми универсальными способами регулярно оказываются те, которые вообще не учитывают частной позиции оппонента. К примеру, глобальные скептические сценарии, критика рациональности или возможности аргументации в целом.
На это, на мой взгляд, и обращает внимание Нозик – нам выгодней поощрять те форматы доказательства и интеллектуального спора, которые мотивируют участников не только участвовать в них, но и развивать эпистемические добродетели. И в этом плане формат объяснения идей — это способ обратить внимание в первую очередь на сильные черты некоторой аргументации, на пути, которыми она может приходить к истине.
Конечно, идея о том, что любая аргументация сможет избегать принудительного аспекта и некрасивого звучания – это достаточно утопичное видение ситуации. Но, что делает идею Нозика действительно интересной, так это указание на расширенные возможности аргументации, которая может пониматься не только как доказательство частных позиций, но и как работа по объяснению и прояснению гипотез, из которых сотканы наши мировоззрения.
В статье использованы работы Mateusz Kozłowski.
