![]()
Константин Морозов критически рассматривает аргументы в пользу анархизма, доказывая, что из базовых философско-анархистских обязательств не следует необходимость упразднения государства.
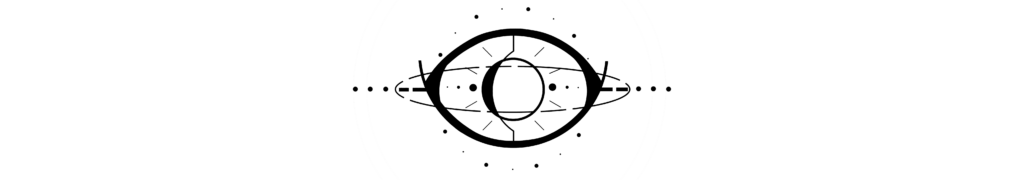
Существует расхожий стереотип, что единственной политической философией, которой русские учили европейцев, а не наоборот, является анархизм. Стереотип этот обязан происхождением ровно двум деятелям — Михаилу Бакунину и Петру Кропоткину. Чуть меньшее количество людей также что-то слышали об анархизме Льва Толстого. Вносят вклад в поддержание этого образа успехи не только в теории, но и в практике: популярен в отечественной культуре образ Нестора Махно. Ни один из сих русских классиков, однако, не опередил в этом ни Пьера-Жозефа Прудона, ни Жозефа Дежака, ни Макса Штирнера, ни Уильяма Годвина, так что национальная гордость за «статус первопроходцев» тут явна излишняя.
И всё же есть нечто в русской культуре стихийно анархичное. «Стихийный анархизм» — это не продуманная политическая теория, скорее это просто восприятие государства как потенциального источника дискомфорта. Для «стихийного анархиста» государство как назойливая муха — неприятно, но терпимо, пока не жужжит под ухом. Подобное отношение не исключает обращения к государству в тех случаях, когда его функции чем-то необходимы «стихийному анархисту», однако распространённостью такой установки можно объяснить ту органичность, с которой в России приживаются и либертарный социализм, и рыночное либертарианство.
Вряд ли в подобном стихийном анархизме есть что-то действительно национально-специфичное, будто аналогичных и даже более сильных анархических тенденций мы не можем найти в любой стране с длительной историей гражданского сопротивления. Что действительно делает русский «стихийный анархизм» уникальным, так это авторитарный уклад российского государства на протяжении большей части его существования. Если в Америке анархические идеи легко ложатся на историю успеха Войны за независимость и прочих актов сопротивления правительству, то в России «стихийный анархизм», несмотря на отдельные эпизоды либерализации и политических смут, ярко выделяется лишь на контрасте с длительной историей политического авторитаризма.
Для простых россиян весь «стихийный анархизм» ограничен нелюбовью к ремням безопасности и согласием на «зарплату в конверте», которую получают примерно 30-40%, если верить данным Министерства финансов РФ. Но для чуть более искушённых по части интеллектуальных развлечений сограждан «стихийный анархизм» всегда имеет риск перерасти в полноценную политическую позицию — в принципиальный анархизм. Многие ребята помладше в принципе начинают приобщаться к философии через аудиолекции Петра Рябова, чей собственный вклад касается перво-наперво истории классического анархизма. С такими интеллектуальными авторитетами проникнуться анархизмом несложно.
Принципиальный анархизм можно понять как два тесно связанных, но не обязательно влекущих друг друга убеждения — одно моральное и одно политическое. Моральный анархизм, более известный в литературе как философский анархизм — это убеждение о том, что государство не имеет морального права принуждать людей, и поскольку принуждение, по крайней мере для анархистов, является определяющей чертой государства как социального института, то для философских анархистов государство морально-нелегитимно. Политический анархизм — это убеждение о том, что институт государства должен быть упразднён. Хотя политические анархисты чаще всего являются философскими, многие философские анархисты, такие как Джон Симмонс, не являются политическими.
Насколько этот принципиальный анархизм — состоятельная и уместная позиция? Меня лично этот вопрос интересует не в силу одного лишь любопытства или желания раскритиковать анархизм. Я сам вырос в среде, где анархизм воспринимался как привлекательный моральный (но не политический) идеал. Да и собственную позицию я бы назвал скорее философским (но не политическим) анархизмом. Поэтому нижеизложенная критика для анархизма скорее внутренняя, а не внешняя. И я надеюсь, что наиболее адекватная часть анархистов воспримут её правильно. Также надеюсь, что для негативно настроенных по отношению к анархизму людей это будет способом взглянуть на непривлекательную для них позицию под новым углом, возможно, чуть более аргументативным, чем они привыкли видеть у самих анархистов.
Зачем нужен анархизм?
Анархисты много в чём друг с другом не согласны. Это касается не только особой любви анархо-капиталистов и анархо-социалистов, когда они описывают друг друга, заключать «анархо» в кавычки. Даже внутри каждого из лагерей мало согласия по большому перечню вопросов. Чтобы сосредоточить наше внимание на анархизме как таковом, следует отбросить все эти конфликты и расхождения. Некоторые его сторонники в принципе не мыслят анархизм в отрыве от этих расхождений, как многие левые анархисты предпочитают отказывать в праве именоваться анархистами всем, кто не разделяет их непринятие наёмного труда. Но если мы хотим сказать об анархизме что-то осмысленное, нам нужна более инклюзивная трактовка.
Не перебирая неудачных кандидатов, я могу предложить наиболее широкую, наиболее консенсуальную и наиболее инклюзивную интерпретацию: анархизм — это радикальный антиэтатизм, где антиэтатизм — это оппозиция институту государственной власти. Если что действительно объединяет всех, кто принимает на себя ярлык «анархист», так это их крайнее неприятие института государства, в пределе доходящее до настойчивых предложений упразднить его. Не все анархисты согласны, что упразднение государства — это опция, доступная нам в современных политических реалиях, но все согласны, что этот вариант следовало бы выбрать, если бы он вдруг был нам предоставлен.
Конечно, этим анархизм не исчерпывается. Анархисты расходятся как по части ценностной мотивации такого непринятия, так и в своих предпочтениях касательно альтернативного институционального дизайна общества. Некоторые обосновывают анархизм, исходя из строгих деонтологических теорий, другим ближе что-то в духе консеквенциализма; некоторые представляют себе безгосударственное общество как конфедерацию миролюбивых эгалитарных коммун, другие — как что-то похожее на современный корпоративный капитализм, где услуги полиции покупаются точно так же, как сейчас оформляется подписка на Netflix. Но как бы сильно друг с другом не расходились анархисты с разных концов политического спектра, их неприязнь к институту государства — это то, что объединяет их и даёт им общую идентичность.
Но зачем кому-либо понадобилось упразднять государство? Для убеждённого анархиста это странный вопрос, потому что ответ на него кажется ему самоочевидным. Но большая часть людей — вовсе не убеждённые анархисты. Иначе сложно было бы объяснить, почему современный институт государства может похвастаться такой удивительной устойчивостью. Поэтому попробуем объяснить базовую анархистскую интуицию против института государства. В этом деле нам поможет, возможно, самый проницательный защитник анархизма среди современных респектабельных философов — профессор философии Колорадского университета в Боулдере Майкл Хьюмер.
Для Хьюмера анархизм — это просто-напросто позиция здравого смысла. Он описывает путь к анархизму через принятие трёх взаимосвязанных тезисов. Во-первых, существует сильная моральная презумпция против принуждения. Это значит, что в стандартных обстоятельствах неправильно использовать против людей принуждение, даже если мы преследуем какую-либо благую цель. Например, в обычных обстоятельствах нам кажется неправильным принудительно запрещать кому-то есть жирную пищу или пить много газировки, несмотря на то, что такие патерналистские запреты могут быть обоснованы заботой о здоровье человека, подвергающегося подобному принуждению.
Эта сильная моральная презумпция может быть обоснована по-разному. Анархисты, поддерживающие теорию естественного права, будут выводить её из естественных прав человека. Анархисты-утилитаристы могут верить, что необоснованное принуждение всегда влечёт за собой негативные последствия. Самому Хьюмеру близка так называемая «этика здравого смысла», согласно которой люди посредством своей моральной интуиции имеют доступ к некоторым самоочевидным моральным истинам. Поэтому в своих аргументах Хьюмер апеллирует именно к моральным интуициям основной массы людей, хотя мы могли бы объяснить то же самое в терминах естественных прав или утилитарной калькуляции.
Действительно интуиции большинства людей идентичны Хьюмеру? Мы не можем говорить об этом с полной уверенностью, но достаточно сильную презумпцию в пользу таких интуиций может обосновать «народный моральный реализм», то есть установка большинства «простых людей» на истинность какой-либо формы морального реализма. Ведутся споры касательно того, действительно ли приводимые в поддержку «народного морального реализма» исследования, такие как The psychology of meta-ethics: Exploring objectivism или Exploring metaethical commitments: Moral objectivity and moral progress, подтверждают именно установку на моральный реализм. Однако даже довольно «слабая» трактовка результатов исследований показывает, что у людей есть распространённые моральные интуиции. И моральная презумпция против необоснованного принуждения достаточно популярная и широко представлена во множестве моральных традиций, чтобы согласиться с Хьюмером насчёт этой интуиции.
Конечно, само по себе это не доказывает моральный реализм. И для аргументации этой метаэтической позиции Хьюмер написал отдельную книгу — «Этический интуиционизм». Для данного рассуждения мы пока можем дистанцироваться от вопросов об аргументации за или против морального реализма, условившись на том, что это просто необходимая предпосылка для поддержки анархизма. Это не единственный возможный язык для описания политики, но анархистам мало чем поможет любой альтернативный концептуальный словарь.
Во-вторых, государственная власть всегда основана на принуждении. С этим не смогут спорить даже убеждённые сторонники института государства. Власть государства всегда основана либо на активном принуждении, либо на угрозах его применения. Существуют люди, которые соблюдают государственные законы не в силу принуждения, а потому что искренне согласны с этими законами. Но это решительно ничего не меняет, потому что для самого государства не имеет особого значения, соблюдают ли его законы в силу искренней приверженности или из страха оказаться за решёткой. Государство не уточняет степень согласия с легитимностью своих законов прежде, чем применит в отношении правонарушителя санкции — оно просто делает это.
В-третьих, нет убедительных аргументов в пользу того, что к государству должны применяться иные моральные нормы, чем в отношении простых людей. Именно это убеждение отличает анархистов от большинства людей, которые и без того согласны с первым и вторым тезисом. Основная масса людей согласна, что в стандартных обстоятельствах принуждение морально-неправильно и что власть государства основана на принуждении. Разница между анархизмом и стандартной позицией большинства людей в том, что большинство людей не применяет в отношении государства те же моральные принципы, которые используются в отношении действий частных лиц.
Хьюмер называет это «проблемой политической власти»: активно поддерживающие существование государства люди верят в некий особый моральный статус государства, который позволяет ему осуществлять принуждение даже в тех случаях, когда никто другой не может легитимно его осуществлять, не подвергаясь справедливому порицанию. Этот особый статус — это и есть «политическая власть», однако у происхождения этой власти нет удовлетворительного объяснения. Ни одна теория, претендовавшая на моральное обоснование политической власти, пока не выдвинула ни одного убедительного аргумента, а реально выдвинутые достаточно уязвимы к сторонней критике.
Почему же люди верят в «политическую власть», несмотря на отсутствие хороших аргументов? По той же причине, по которой люди вообще часто верят во всякую необъяснимую чушь. А если чуть менее голословно, то Хьюмер предполагает, что люди верят в «политическую власть» просто в силу предубеждения статус-кво. Мы привыкли жить в обществе, где существует централизованное государство, а потому у каждого из нас наличествует естественная склонность к вере в «политическую власть». В конце концов, мы даже можем сказать, что эта вера даёт нам некоторого рода эволюционное преимущество, потому что несклонные принимать авторитет государства индивиды по некоторым очевидным причинам имеют тенденцию рано выбывать из эволюционной конкуренции со своими нонконформистскими генами.
Отринув предубеждение статус-кво, любой человек, по мысли Хьюмера, будет вынужден согласиться, что, если имеет место неправомерность принуждения, то неправомерно и всё то, что с ним неразрывно связано — в том числе государство.
Анархизм отменяет анархию

Хотя усилия Хьюмера направлены на защиту не просто анархизма как такового, а весьма конкретной рыночной его формы, его аргумент хорошо описывает характерный для основной анархистской линии ход мысли. Расхождения происходят во многом из разных интуиций насчёт того, что из себя представляет принуждение. Например, умные левые анархисты, такие как Уильям Гиллис, могли бы возразить Хьюмеру, что последовательное применение его моральной презумпции против принуждения несовместимо с сохранением не только государства, но и корпоративного капитализма и вообще любых иерархических отношений в обществе. Либо потому что само существование этих институтов и отношений — побочный эффект от государственного принуждения, либо потому что сами эти институты и отношения основаны на принуждении, пусть и, возможно, в несколько менее явной форме. Но независимо от нюансов определения принуждения, все анархисты сталкиваются с одной неочевидной трудностью, которой мало внимания уделяется в анархистской теории. Дело в том, что анархизм выбивает собственную теоретическую почву у себя же из–под ног.
Презумпция против принуждения, лежащая в основе анархизма, является моральной. Она и не может быть никакой другой, кроме как моральной. Любая политическая теория, которая имеет свою позитивную повестку, является нормативной теорией: она описывает не только то, что есть политика, но и то, чем он должна быть. Благодаря неправильной интерпретации аналитическими философами XX века одного фрагмента из «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма, нам сегодня известно, что такие переходы от дескриптивных предпосылок к нормативным выводам возможны только при наличии некоторых ценностных установок. Впрочем, этический фундамент анархизма легко разглядеть и без высоких познаний в юмоведении. Не будь основа анархизма строго этической, стали бы теоретики анархизма разбрасываться в отношении государства именно морализованными обвинениями, такими как «грабёж», «тирания», «рабство» или даже «людоедство»?
Таким образом, принципиальный анархизм требует морального реализма — убеждения, что существуют объективно-истинные моральные суждения. Но сам по себе моральный реализм предполагает, что принятие некоторых нормативно-этических и политических взглядов — это не вопрос личного предпочтения, а поиск объективно-истинной позиции. Так, анархисты должны принять моральный реализм, потому что иначе сам анархизм будет не более, чем набором чьих-то персональных хотелок примерно того же уровня, как чьё-то желание съесть пиццу. Но именно в тот момент, когда анархисты принимают моральный реализм, им приходится ослабить свою теорию. Дело в том, что базовая ценностная установка, из которой исходят практически все анархисты — это не абсолютная недопустимость любого принуждения. Это всего лишь презумпция против принуждения, пусть и достаточно сильная. То есть основная масса анархистов не считают, что принуждение недопустимо всегда, они всего лишь думают, что акт принуждения должен иметь веские основания и что большинство актов принуждения со стороны государства таких веских оснований не имеет.
Допустим, два приятеля, Жак и Пьер, пришли на вечеринку к своему другу Марку. На этой же вечеринке они встретили Монику, которая немного перебрала алкоголя и удалилась в одну из комнат наверху. Пьер, заметив это, последовал за ней. Жак, почуяв неладное, тоже последовал за Моникой и обнаружил Пьера за попыткой изнасилования. Допустимо ли со стороны Жака использовать против Пьера принуждение, чтобы не дать ему изнасиловать Монику? Сложно найти человека, который бы ответил: «Нет». Моральная интуиция большинства людей всё-таки склоняет их к тому, что изнасилование — это ужасное зло (и это также принуждение), и для его предотвращения можно использовать принуждение.
Я также не думаю, что анархисты отличаются от остальных людей в том, что касается оправданного принуждения. Поддержка права на ношение оружия — одна из наиболее узнаваемых черт анархо-капиталистов. В поддержке права на оружие нет никакого смысла, если не допускается возможность его морально-оправданного применения. И надо ли говорить, что принуждение — это что-то вроде основной функции оружия? Но и левые анархисты тоже отнюдь не чужды оправданию принуждения. Некоторые из них, вслед за Михаилом Бакуниным, одобряют (а я осуждаю) революционное насилие. Многие романтизируют участие анархистов в гражданских войнах в России и Испании.
Иными словами, даже анархисты, за исключением убеждённых анархо-пацифистов, признают допустимость принуждения в каких-то определённых обстоятельствах. Но если принуждение допустимо, например, чтобы предотвратить ещё более ужасное принуждение, то почему этим не может заниматься государство? На самом деле, вообще не имеет значения, кто будет заниматься оправданным принуждением. В моральном смысле нет никакой разницы, помешает ли Пьеру изнасиловать Монику Жак, Марк, случайный незнакомец или вызванный кем-нибудь полицейский. Любой моральный агент может выступать в качестве исполнителя требований справедливости.
Все знакомы с историей благородного разбойника Робина Гуда, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Не без помощи массовой культуры, но большинство склонно считать Робина Гуда положительным героем (хотя и не его гипотетический исторический прототип). Некоторые люди поддерживают его на консеквенциалистских основаниях: разбои Робина Гуда морально-правильны, потому что принесённое им облегчение страданий бедных перевешивает те страдания, которые он принёс ограбленным богачам. Другие люди поддерживают Робина Гуда на более деонтологической основе, вводя допущение о том, что именно ограбленные богатые были причиной бедности тех людей, которым помогал Робин. И в этом есть смысл, учитывая феодально-средневековый сеттинг историй о шервудских разбойниках. В этом смысле Робин Гуд даже не был грабителем, он всего лишь компенсировал ущерб, нанесённый настоящими грабителями — его богатыми жертвами.
Однако люди, склонные одобрять Робина Гуда, столь же склонны одобрять принудительное перераспределение доходов от богатых к бедным, когда его проводит государство. Консеквенциалистские апологеты перераспределения, такие как Питер Сингер, также объясняют это простой калькуляцией полезности, поскольку в силу убывающей предельной полезности денег богатые теряют от перераспределения меньше, чем получают бедные. В деонтологическом лагере могут поддерживать, вслед за Робертом Нозиком, ректификационное перераспределение в том случае, если мы признаём богатство высшего класса в каком-то смысле достигнутым за счёт эксплуатации экономически-уязвимых слоёв. При этом люди, осуждающие Робина Гуда или даже скорее саму идею «грабь богатых, раздавай бедным» на принципиальных деонтологических основаниях, с большей вероятностью будут осуждать перераспределение доходов государством, как это делал Роберт Нозик в отношении неректификационного перераспределения.
На практике асимметрия в нашем восприятии шервудских разбойников и государства всеобщего благосостояния может возникнуть (и часто возникает) либо из побочных практических соображений, либо из убеждения о существовании политической власти. В первом случае государственное перераспределение может рассматриваться как более оправданное, но это предпочтение само по себе не выражает никакого этического суждения о статусе подобных действий. Во втором случае, как выше подмечалось, необходим аргумент в пользу особого статуса государства и его агентов в сравнении со всеми остальными людьми.
Получается, нет большой разницы, осуществляет ли принуждение государство или какое-либо частное лицо. Принуждение будет аморально и недопустимо, если совершается без веских оснований, но оно же будет оправданно и даже необходимо, если такие основания есть. Если это так, то у анархистов нет причин настаивать именно на политическом анархизме, то есть на полном упразднении института государства. Всё, что требуется от анархистов — это добиваться устранения тех форм государственного принуждения, которые не имеют веских оснований. Поскольку такие основания имеют по меньшей мере те статьи уголовного кодекса, которые касаются насильственных преступлений, устранять государство нет необходимости. Государству не нужна «политическая власть», чтобы осуществлять принуждение с целью предотвращения насилия, поскольку моральную власть для такого принуждения имеет каждый человек.
Чем специфично государство?
Существует несколько анархистских возражений, с которыми может столкнуться подобный аргумент. Некоторые анархисты могли бы ответить примерно так: «Хорошо, государству не нужна “политическая власть”, чтобы легитимно принуждать, поскольку моральная власть для легитимного принуждения есть у всех людей. Почему государство подавляет своих конкурентов в вопросе легитимного принуждения?».
Если у любого человека есть моральная власть помешать Пьеру изнасиловать Монику, то было бы неправильно со стороны Жака мешать кому-либо в его попытках помешать Пьеру. Дело даже не в том, что такая попытка со стороны Жака облегчит Пьеру его гнусное посягательство на телесную автономию Моники, делая Жака некоторого рода соучастником изнасилования. Принуждение оправданно только при наличии веских оснований, а попытка предотвратить ещё более ужасное принуждение не похожа на веское основание для принуждения. Проще говоря, даже если действия Жака не облегчат изнасилование Моники, например, потому что Пьеру помешает кто-то ещё, действия Жака не проходят тест на легитимность принуждения сами по себе.
Действия государства часто похожи на то, как действует в данном случае Жак. Классическое веберианское определение государства, как известно, включает в себя монополию на насилие в качестве основного компонента. Какая бы критика веберианского определения не приводилась, оно всё же содержит в себе очень важную фундаментальную истину: есть значительная асимметрия в том, какие формы принуждения допустимы государству, а какие — частным лицам. Если вигилант схватит педофила и запрёт его в своём подвале, то это в любом случае будет похищение. Если то же самое сделает государство, то это будет просто тюремное заключение. (По крайней мере, если оставить в стороне процессуальную сторону дела, которая также имеет большое значение и о которой будет сказано далее). Но если для такого принуждения не нужна «политическая власть» и исполнителем требований справедливости может быть любой, то почему мы дозволяем государству ограничивать других моральных агентов в их праве осуществлять правосудие?
Сперва следует обратить внимание, что эта асимметрия не столь сильна, как может показаться. Даже в России существуют права на гражданское задержание и самооборону. Эти права ограничены, но в отрыве от правоприменительной практики в самих ограничениях нет ничего странного. Наоборот, странно было бы разрешить людям ломать вору шоколадок колени, если он не оказывает никакого сопротивления. У россиян есть обоснованные претензии к действующим редакциям законов о самообороне, но неудовлетворительность существующих законов — это аргумент за их переработку, а не упразднение всего государства. При этом асимметрии в правах на принуждение не должно быть ещё и в том смысле, что все те же ограничения, которые налагаются на гражданский арест, должны налагаться и на арест правоохранительными органами. Кейс Джорджа Флойда, я надеюсь, всем показал, что сидеть 8 минут на шее у человека (даже совершившего преступление) не должен даже офицер полиции.
Но одно дело арест, другое — тюремное заключение. Всё-таки следующим шагом после гражданского задержания обязательно идёт сдача задержанного в руки государственной полиции. Но почему мы исключаем вариант, что задержавший или, например, частное охранное агентство сами занимаются определением наказания? Первое интуитивное соображение: потому что нам нужно ещё определить вину человека, прежде чем запирать его в клетке. Если бы каждый мог устраивать у себя в подвале собственную частную тюрьму для любых людей, которых он посчитает нужным задержать, то мы бы снова оказались в стране, где одна половина сидит, а вторая — охраняет. Государство за счёт своих чётко определённых правовых норм и процедур просто позволяет нам сделать весь этот процесс публичным и прозрачным, а за счёт этого — более честным и справедливым. Существование стран с коррумпированной системой уголовного правосудия не будет являться доводом в пользу анархизма, потому что у нас также есть примеры стран, где пенитенциарная система работает хорошо. Конечно, и существование таких стран не доказывает, что безгосударственной альтернативы вообще не может быть.
На самом деле, я бы зашёл дальше и сказал, что любая система принудительного содержания людей под стражей чаще всего несправедлива. Здесь также нет асимметрии власти между частными лицами и государством, ведь одинаково несправедливо держать заложников и у себя в подвале, и в государственной тюрьме. Безусловно, тюремный аболиционизм — это популярная среди анархистов позиция, но из тюремного аболиционизма анархизм напрямую не следует. Возможно, самый известный тюремный аболиционист Нильс Кристи считал свои практические предложения частью государственного реформирования тюремной системы, а не шагом на пути к полному устранению государства.
Иными словами, государство действительно не является специфическим институтом в том смысле, что на него всё-таки должны распространяться все те же моральные ограничения, которые мы применяем сегодня к действиям частных лиц. Проблема для анархизма в том, что из этого не следует необходимость упразднить государство. Достаточно будет реформировать его. Во всяком случае такое предложение явно более практично, ведь у нас есть опыт успешного реформирования государств по либерально-демократическому пути. Но нет практически никакого опыта длительного существующего и при том процветающего безгосударственного общества.
Как философский анархист, я достаточно открыт для теоретических размышлений насчёт того, как могла бы выглядеть безгосударственная альтернатива либеральной демократии. Но в конечном счёте выбор между анархическим и государственным обществом — это практический вопрос, а не строго этический и принципиальный. Возможно, конфедерация эгалитарных коммун или сеть из экстерриториальных контрактных юрисдикций будет работать эффективнее, чем либеральная демократия западноевропейского образца. Но я предпочитаю здесь сохранять своё предубеждение статус-кво. Очевидна необходимость реформировать автократию в демократию, но не демократии в анархию.
Окольный путь к анархизму через моральный субъективизм

Подведём небольшой промежуточный итог. Последовательный принципиальный анархизм требует морального реализма, чтобы оправдать сильную моральную презумпцию против принуждения. Но любая осуждающая принуждение форма морального реализма, кроме пацифистских, будет также оправдывать принуждение в некоторых исключительных случаях, таких как предотвращение большего или более ужасного принуждения. Из этого следует, что выбор между анархией и государством — это просто практический выбор между разными институциональными дизайнами, направленными на минимизацию принуждения. И практическое превосходство анархии перед государством — слишком спорное утверждение, чтобы бескомпромиссно поддерживать его.
Мы можем также заметить, что любая анархическая альтернатива в тех или иных важных аспектах просто повторяет знакомые нам институты государства. Так, основной идеей левого анархизма является некоторого рода расширение внутригосударственного демократического процесса, как по перечню тем, подлежащих демократическому обсуждению, так и по количеству участников, участвующих в принятии решений. Сущностно это не отличается от демократического государства хотя бы потому, что не исключает необходимость некоторого принуждения для реализации коллективных решений в таком анархическом обществе. Нужно быть очень наивным анархистом, чтобы верить в возможность полного консенсуса даже в децентрализованном и эгалитарном обществе. Иными словами, анархия — это даже не совсем альтернатива либеральной демократии, это просто ультрадемократия, «демократия на стероидах».
Только анархо-пацифизм может предоставить теоретическую основу для действительно бескомпромиссного непринятия государства. Если любое принуждение всегда и без исключений недопустимо, то и любое государство недопустимо. Хотя есть много важных и проницательных идей, которые любой человек либертарных взглядов может почерпнуть у теоретиков анархо-пацифизма, в целом не похоже, что кто-то готов рассматривать это как доступную альтернативу. В конце концов, полный отказ от насилия приведёт нас к выводу, что в описанном выше примере со стороны любого человека было бы неправильно мешать Пьеру изнасиловать Монику, и даже сама Моника не должна сопротивляться Пьеру. Похоже ли это на убедительную моральную позицию?
Но если моральный реализм не оставляет анархистам иного варианта, кроме как отказаться от политического анархизма в пользу чисто философского (если только нет убедительных эмпирических аргументов в пользу анархии, но их дефицит переживают даже лучшие теоретики-анархисты мира), могут ли анархисты попытаться оправдать свою теорию на антиреалистических позициях? Полный отказ от ценностных предпосылок, как было обнаружено ранее, делает анархизм и любую позитивную политическую программу невозможными. Но анархисты могли бы принять моральный субъективизм и объявить эти ценностные установки вопросом индивидуальных предпочтений людей. Не получится оправдать претензию государства на осуществление оправданного принуждения, если не существует никакого единого и универсального стандарта оправданности принуждения.
Удивительным образом это оказывается созвучно идеям таких разных людей, как Макс Штирнер и Родион Белькович. Штирнеровская критика государства соседствует со штирнеровской критикой морали, и многие видят в немецком младогегельянце едва ли не главного врага всех форм этического объективизма, какие только можно придумать. Действительно, интерпретация Штирнера как абсолютного морального нигилиста, отрицающего любые общие нормы, имеет место. Но эта интерпретация мало что может дать анархистской философии, потому что Штирнер-аморалист однозначно исключает Штирнера-анархиста. И, конечно, найдутся те, кто захотят отбросить обе интерпретации, потому что рядом с именем Штирнера уместно ставить лишь один ярлык — «Эгоист».
Так или иначе, если трактовать «Единственный и его собственность» как труд, который просто-напросто воспевает эгоизм и своекорыстие свободной от любых предрассудков («призраков ума») творческой личности, то из этого не следует никакой политической повестки. Напротив, государство хоть и остаётся врагом Эгоиста в тех ситуациях, когда оно ущемляет его интересы, оно также может быть очень полезным инструментом для удовлетворения его интересов. Поскольку никакая мораль и требования последовательности в его непринятии государства не сковывают Эгоиста, он может поддерживать самое авторитарное на свете правительство с тем же энтузиазмом, что и упразднение государства. Эгоист в вариации Штирнера-аморалиста — это всего лишь приспособленец без политических взглядов. Быть анархистом для него даже нежелательно, ведь нет никакой выгоды в том, чтобы тратить время на политический активизм или даже просто портить свои отношения с государством, явно маркируя свою к нему неприязнь.
Но как и самопровозглашённый имморалист Фридрих Ницше, Штирнер может рассматриваться как философ, у которого есть вполне явная и даже перфекционистская позитивная моральная теория. Такая интерпретация не будет чужда тем, кто уже знаком с антинигилистической интерпретацией Штирнера анархистом и историком философии Петром Рябовым. Штирнер — это хоть и весьма своеобразный, но этик добродетели. Поразительно, насколько штирнеровская критика господствующей морали XIX века созвучна критике Элизабет Энском моральной философии века XX. Хотя в позитивной программе между консервативной католичкой Энском и апологетом инцеста Штирнером мало общего, исходные пункты у них действительно схожи.
Если рассматривать Штирнера таким образом, как очень своеобразного этика добродетели, то не составит труда объяснить, как из его позитивной моральной теории следует действительно последовательный и принципиальный анархизм. Просто Штирнер в этой интерпретации никакой не субъективист: процветание Эгоиста требует от него весьма конкретных вещей и построение анархического общества («Союза Эгоистов») входит в этот перечень. Но это также уязвимо ко всем вышеперечисленным соображениям относительно морального реализма и оправданного принуждения. Возможно, с той лишь разницей, что Штирнер — явный моральный партикулярист, что делает задачу штирнерианского оправдания принуждения даже более лёгкой. Ведь если эгоистическая мораль сильно завязана на контексте, то само собой напрашивается предположение, что в некоторых ситуациях принуждение будет оправданно.
Белькович и вся московско-республиканская тусовка, со своей стороны, вообще не кажутся моральными субъективистами. Наоборот, естественный закон и гражданская добродетель положены ими в основании, а сексуальные предпочтения поколения Z — едва ли не второй главный враг московского республиканизма после аниме. Проще говоря, московские республиканцы сами не скрывают и открыто декларируют, что их взгляды — это что-то близкое к моральному реализму, да и притом в достаточно консервативной и перфекционистской его разновидности. Но если мораль объективна и запрещает, например, сексуальные практики за пределами вагинального гетеросексуального контакта, то почему московские республиканцы не одобряют государственное принуждение в этой сфере (по крайней мере, делают вид)?
Умный консерватор, такой как Джон Финнис, мог бы просто сказать, что не всякое аморальное действие допустимо предотвращать с помощью государственного принуждения. Например, по Финнису, ложь аморальна, но он не предлагает внести ложь в уголовный кодекс. Не любые моральные нормы порождают правовые — между моралью и правом есть естественное разделение, даже если первое тем или иным образом легимитизирует второе. Многие философы права, например, ограничили бы применимость государственного принуждения теми вопросами, которые сами сопряжены с осуществлением принуждения или каким-либо иным непосредственным причинением вреда окружающим.
Московские республиканцы же предлагают решение поабсурднее: хотя есть что-то вроде естественной объективной морали, никто не может точно её сформулировать за исключением того, что государство неестественно, а применимость моральных и правовых предписаний ограничена политическим сообществом, членство в котором определяется исключительно «согласием в вопросах права и общностью интересов». По этой причине Родион Белькович, например, не видит никакого противоречия в том, чтобы в полном соответствии с православным учением считать аборт убийством, но при этом выступать против государственных запретов на аборты, поскольку государство просто «механически» скрепляет людей, между которыми нет того самого согласия в вопросах права и общности интересов.
Неудивительно, что основная повестка московского республиканизма так разительно отдаёт «либертарианскими общинами» Михаила Светова и прочим Гансом-Германом Хоппе. Впрочем, Хоппе и московским республиканцам хватает последовательности, чтобы настаивать на объективности именно своей расистской и ксенофобской версии естественного закона, без лишних заигрываний с полиукладностью и плюрализмом в духе мета-утопии столь нелюбимого радикальными русскими либертарианцами Роберта Нозика.
В световском «общинном либертарианстве» субъективистский аспект становится ещё более явен, поскольку Михаил вовсе отрицает возможность какой-либо морали за пределами эксплицитного договора между людьми. Но на практике это различие не имеет значение, поскольку и в том, и в другом случае только сам человек становится окончательной инстанцией, определяющей моральную правильность чего-либо. Склонность Бельковича и его друзей чуть более явно артикулировать свои личные предпочтения по части публичной этики сути дела не меняет.
Однако такой волюнтаристский субъективизм не может быть последователен. Если только сам человек — это конечная инстанция в определении хорошего и плохого, то почему принуждение кого-либо к тем моральным порядкам, на которые он не давал согласия, будет неправильно? Его субъективное суждение на этот счёт не может иметь больший вес, чем столь же субъективное суждение лица, осуществляющего принуждение, что это принуждение оправданно. Однако Светов, Белькович и близкие им поклонники полиукладности почему-то отбрасывают моральный субъективизм (или скромность в притязаниях на знание моральной истины) в пользу самого строгого морального реализма, когда дело доходит до нормативных основ их политических построений.
Но если у нас есть знание хотя бы о том, что нельзя навязывать людям публичную мораль, а они должны добровольно её выбирать, то почему у нас не может быть знания о гораздо большем количестве условий, когда принуждение будет оправданно или неоправданно? Если мы знаем, что Пьера нельзя заставлять жить в мультикультурном обществе, почему мы не можем знать, что Монику нельзя заставлять заниматься сексом с Пьером? Почему нам не нужен никакой эксплицитный договор, чтобы запретить навязывать друг другу правовые институты, но он нужен, чтобы запретить Пьеру насиловать Монику?
Таким образом, моральный субъективизм не спасает политический анархизм. Напротив, он ещё более размывает теоретические основы этой позиции. Если объективной морали нет, но есть лишь частные мнения, то любая претензия на надлежащее видение общества и его политических институтов — это просто личная хотелка конкретного человека. Какой смысл прислушиваться именно к политическим хотелкам людей, а не к гастрономическим? Почему чьё-то субъективное предпочтение безгосударственного общества должно заботить нас больше, чем чьё-то желание пообедать в пиццерии? И почему нас вообще должно это интересовать?
Заключение
Как я показал, стандартный аргумент в поддержку политического анархизма подрывает собственные основы, поскольку он требует морального реализма, а моральный реализм допускает возможность государственного принуждения там, где нарушаются объективно-истинные моральные нормы. Ни отказ от морального реализма, ни принятие более строгого (пацифистского) стандарта в отношении принуждения не решают проблему. Однако у анархистов всё ещё есть несколько перспектив для дальнейших разработок в русле анархизма.
Во-первых, анархисты могли бы отказаться от политического анархизма и поддержать только философский анархизм. То есть они могут сохранить приверженность строгому убеждению, что любое государство не имеет особого морального статуса и даже что в идеальной теории государства вообще не должно быть. Но на практике философские анархисты не обязаны поддерживать упразднение государства ни в кратко-, ни в долгосрочной перспективе, продолжая отстаивать дальнейшую либерализацию и сокращения неправомерного принуждения.
Во-вторых, анархисты могли бы сохранить приверженность и философскому, и политическому анархизму, сосредоточившись на поиске сильных практических аргументов в пользу того, что безгосударственное общество будет эффективно. Это задача определённо сложна, но тем похвально будет любое стремление отстоять анархизм не просто как моральную доктрину, но как проработанное практическое видение институционального обрамления хорошего общества.
В то же время, независимо от выбранной стратегии, анархистам также следует ослабить свой ригоризм в отношении альтернативных, но схожих позиций. Так, левым анархистам следует более серьёзно отнестись к социал-демократической и эгалитарно-либеральным альтернативам, а правым анархистам — к минархическим и классически-либеральным. Во всяком случае, поводов для сильной убеждённости в своей правоте по сравнению с наиболее близкими идеологическими альтернативами у анархистов не так много.
В оформлении использована работа Gerhard Human.
