![]()
Захар Неустроев перевел статью Рэя Брассье, в которой излагаются фундаментальные концепции Ларюэля, ключевые положения аксиоматического мышления не-философа и роль не-философской практики как таковой.
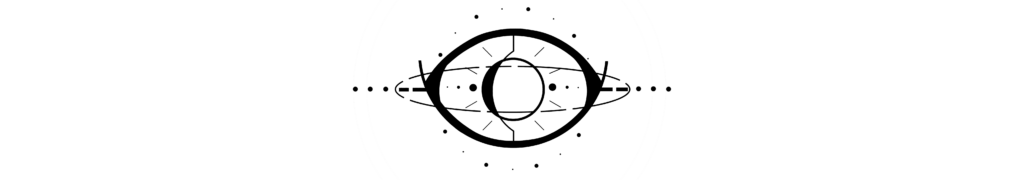
Предисловие переводчика
Труды Франсуа Ларюэля изобилуют оригинальными и во многом труднопонимаемыми терминами и концепциями. Однако подобного рода «абстрактность», о которой заявит в этом тексте и сам Рэй Брассье, один из участников ONPhI (Organisation Non-Philosophique Internationale), является вполне обоснованной, разъяснению чего и будет посвящена одна из частей статьи. Поскольку материалов, посвященных не-философу, на русском языке не так много, мы постарались прояснить наиболее трудные места, которым Брассье не уделяет достаточного внимания.
Огромная благодарность проекту La Pensée Française за консультацию в процессе перевода и предоставление примечаний, разъясняющих фрагменты статьи. Автор перевода также благодарит Артёма Морозова, автора Telegram-канала «заводной карнап», оказавшего помощь в работе над статьей. Примечания Брассье отмечены квадратными скобками, примечания за авторством La Pensée Française – круглыми. Примечания переводчика помечаются «*».
Данная статья Рэя Брассье носит, в некотором смысле, энциклопедический характер. В ней ставится акцент на ключевых положениях проекта Франуса Ларюэля. Так, Брассье уделяет много внимания философскому Решению, детерминации-в-последней-инстанции, унилатеральной дуальности, сцепке теории и практики в аксиоматическом не-философском мышлении и другим не менее важным аспектам не-философии.
В основании не-философского проекта Ларюэля лежит гипотеза о том, что ключевая операция философии — трансценденция, производство различия. Именно здесь речь заходит о философском Решении. Философия начинается с принятия решения относительно того, что Ларюэль называет Реальным. В попытках описать это Реальное, философия производит трансцендентность. Структура решения — формальный синтаксис, регулирующий возможности самого философствования. Философия, основывающаяся на Решении, характеризуется рефлексивностью и зеркальностью, то есть направленностью на саму себя. Философское осмысление мира становится предлогом для бесконечной самоинтерпретации философии, абсолютная зеркальность порождает бесконечные интерпретации – такова норма философской практики мышления. Само зеркальное мышление философии не может допустить полагание радикальной имманентности, и это именно то, что приводит не-философию в действие. Не-философия – это преобразование зеркального сопротивления имманентности в форму не-зеркального мышления.
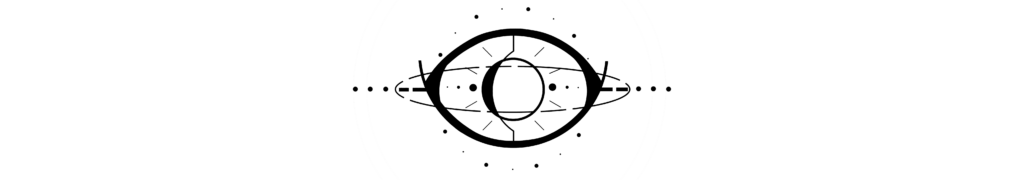
Существует по крайней мере два способа оценки философской оригинальности. Самый очевидный – по тому, что думает философ. Помимо выдвижения новаторских тезисов о природе бытия, истины или знания, философ может создавать новые виды утверждений, касающихся истории, искусства, морали, политики и так далее. Другим способом оценки оригинальности является то, как философ мыслит. Есть философы, чья наиболее примечательная претензия на оригинальность заключается не столько в том, что они думают, сколько в том, как они думают. Они предлагают фундаментальные изменения в том, как творится философия – революционный прорыв, новое начало. Декарт, Кант, Гегель и Гуссерль, пожалуй, самые известные примеры, но такие фигуры, как Фреге или Рассел, также заслуживают упоминания. То, что их предполагаемое новаторство при ближайшем рассмотрении может оказаться псевдореволюционным или в сущности консервативным, здесь не имеет значения. Важным является заявленное ими стремление осуществить трансформацию философского метода, переосмыслить как формальные средства, так и основные цели философствования. Таким образом, новизна того, что они думают, менее важна, чем новизна того, как они думают. Это значит, что любые содержательные утверждения таких философов об истории, природе, искусстве или политике могут быть оценены только в свете революционных инноваций, которые они якобы осуществили на уровне формы философского мышления.
На это можно возразить, что это совершенно поверхностное различие и что канонические философы европейской традиции сочетают оба измерения оригинальности в различных пропорциях: в их работах большая или меньшая степень формальной изобретательности сочетается с большей или меньшей степенью содержательной инновации. И, само собой, гегельянцы или делезианцы не преминут заметить, что у Гегеля или Делеза формальное изобретение и содержательное новаторство сцеплены в совершенном равенстве. Хайдеггерианцы или дерридианцы могут указать на то, что Хайдеггер или Деррида сочетают внушительную абстрактную изобретательность с детальным конкретным анализом таким образом, что их невозможно сопоставить с этой неуклюжей схемой формы/содержания. Однако, несмотря на эту неуклюжесть и легкость, с которой можно привести исключения и контрпримеры, эта упрощенная, по общему признанию, схема остается полезной хотя бы потому, что она дает нам базовые рамки, в которых можно оценивать оригинальность мыслителя, серьезно претендующего на звание самого значимого неизвестного философа, работающего сегодня в Европе: Франсуа Ларюэля [1].
Особенность Ларюэля заключается в том, что он, возможно, является первым европейским философом, в работах которого содержательная инновация была беззаветно принесена в жертву во имя формального изобретения. Это вежливый способ сказать, что, в отличие от своих более знаменитых коллег [2], Ларюэль не только не делает новаторских философских заявлений о бытии, истине или знании; ему также нечего сказать об истории, этике, искусстве или политике – или, по крайней мере, ничего, что имело бы хоть какой-то смысл за пределами параметров его собственного строго абстрактного теоретического аппарата. Те восхитительно [deliciously: обыгрывается слово «вкусно» в контексте фразы об аппетите публики – примеч. пер.] «содержательные» приманки, которыми философ обычно удовлетворяет аппетит публики к «конкретике», полностью отсутствуют в его работе. «Покажите мне пример примера, и я отрекусь от этой книги» – сострил однажды Ларюэль [3].
Правда в том, что его мысль функционирует на уровне абстракции, которая одним покажется изнуряющей, другим – захватывающей. Те, кто считает, что формальное изобретение должно быть подчинено содержательной инновации, несомненно сочтут работу Ларюэля отталкивающей. Те, кто считает, что освобождение формального изобретения от ограничений содержательной инновации – и тем самым преобразование последней – остается философски достойным вызовом, вполне могут счесть работу Ларюэля воодушевляющей. Независимо от реакции – будь то отвращение или восхищение – Ларюэль остается равнодушным. Абстракция – это та цена, которую он более, чем готов заплатить в обмен на методологическую инновацию, которая обещает расширить возможности концептуального изобретения далеко за рамки ресурсов философского новаторства.
Таким образом, значимость Ларюэля может быть заключена в одном утверждении: утверждении, что он открыл новый способ мышления. Под «новым», конечно, Ларюэль подразумевает «философски беспрецедентный». Но то, что Ларюэль подразумевает под «философски беспрецедентным» – это не то, что имели в виду такие философские революционеры, как Декарт, Кант, Гегель или Гуссерль. Ларюэль ересь предпочитает революции. Если философская революция предполагает реформирование философии ради конечного блага самой философии – и философскую заинтересованность в том, чем следует заниматься философии, – то ересь предполагает использование философии при отсутствии какой-либо философской заинтересованности в нормативном определении философии. Это не значит, что еретическое использование философии Ларюэлем основано на отказе давать ей определение; если бы это было так, то оно бы ничем не отличалось от циничного рортианского прагматизма. Напротив, что делает ересь Ларюэля интересной, так это то, как она обеспечивает философски незаинтересованное – то есть ненормативное – определение сущности философии.
Как и революционер, еретик отказывается принимать любое определение философии, основанное на апелляции к авторитету философской традиции. Но в отличие от революционера, который чаще всего опрокидывает традицию с целью оживить якобы оригинальную, но скрытую сущность философии, еретик исходит из безразличия, которое подвешивает традицию и учреждает философски незаинтересованное определение сущности, или, как предпочитает говорить Ларюэль, идентичности философии. Это незаинтересованное определение философии вытекает в то, что Ларюэль называет не-философским использованием философии: использование, которое остается конститутивно чуждым нормам и целям, определяющим надлежащую философскую практику философии. И на самом деле, «не-философия» – это название, которое дает Ларюэль, философски беспрецедентной или еретической практике философии, которую сам изобрел.
Однако, несмотря на название, это не «анти-философия» и не еще один вариант избитой темы «конца философии». Это не новейшая разновидность деконструкции или еще одно проявление постфилософского прагматизма. Не-философия – это теоретическая практика философии, исходящая из трансцендентальных аксиом и производящая философски не интерпретируемые теоремы. «Интерпретируемые», потому что Ларюэль настаивает – и реакция на его работу, кажется, это подтверждает – не-философия конституируется как непонятная философам, точно также, как не-евклидова геометрия конституируется непонятной для евклидовых геометров [4]. Таким образом, Ларюэль предлагает понимать «не» в выражении «не-философия» сродни «не» в «не-евклидовой» геометрии: не как отрицание или опровержение философии, но как подвешивание конкретной структуры (философский эквивалент евклидовой аксиомы о параллелях), которую Ларюэль считает определяющей для традиционной практики философии. Новые возможности мышления становятся доступными, когда эта структура подвешивается, и не-философия служит указателем этих философски немыслимых возможностей.
Следовательно, если не-философию можно противопоставить постмодернистскому подходу прагматиков к философии «тележки супермаркета», где личные пристрастия философского потребителя служат единственным критерием выбора между конкурирующими философиями, и где академия теперь фигурирует как некий интеллектуальный супермаркет, то она не является очередной теоретической новинкой – последней прихотью, следующим большим шагом – но средством превращения самой практики философии в упражение в непрерывном изобретении.
Как возможна подобная практика? Почему она должна быть необходима? И какое значение это расширение возможностей имеет для мышления? Именно эти вопросы мы и предлагаем рассмотреть ниже.
Философия как решение
Мы должны начать с рассмотрения первого из нескольких противоречивых утверждений Ларюэля: существует единый, трансисторический инвариант, действующий в каждой попытке философствования, будь то Юм или Хайдеггер, Декарт или Деррида. Ларюэль называет этот инвариант «философским решением». Структура решения – формальный синтаксис, регулирующий возможности философствования. И все же оно остается не признанным самими философами; не из-за недостатка рефлексивной скрупулезности с их стороны, но именно благодаря ей. Именно гиперрефлексивность философии не позволяет ей распознать свою собственную форму как решение. Решение не может быть схвачено рефлексивно, поскольку оно является образующим рефлексивным элементом философствования. Идентификация решения как формы философствования предполагает не-рефлексивный или (по Ларюэлю) не-тетичесий взгляд на тетическую рефлексивность, являющуюся элементом философии.
Именно поэтому не-философия не является метафилософией – философия уже метафилософична из-за своей конститутивной рефлексивности или зеркальности [specularity]: всякая философия, заслуживающая того, чтобы так называться, содержит в себе (скрыто или явно) философию философии. Не-философия – это не философия философии, а гетерогенная практика философии, лишенная измерения зеркальной рефлексивности, присущей решению. И еще раз, поскольку философская зеркальность является функцией структуры решения, то выявление структуры решения, обусловливающей эту зеркальность, возможно только из не-зеркальной, то есть не-решенческой*, перспективы философии. Но для того чтобы понять, как эта не-философская перспектива не только осуществима, но уже действует для не-философа, мы должны понять, как функционирует решение.
Решение состоит, как минимум, в акте расщепления или разделения двух понятий: обусловленное (но не обязательно перцептивное или эмпирическое) данное [datum] и его условия как априорный (но не обязательно рациональный) факт [faktum], оба из которых полагаются как данные в синтетическом единстве и через него, в котором условие и обусловленное, данное и факт, соединены. Таким образом, философ учреждает структуру артикуляции, которая непосредственно связывает и различает обусловленное данное – то, что дано – будь то перцептивное, феноменологическое, лингвистическое, социальное или историческое, и его условие – его данность [givenness]– как априорный факт, через который это данное дано: например, чувственность, субъективность, язык, общество, история.
Ключевым здесь является то, как подобная структура является независимой от двух терминов, которые она одновременно соединяет и различает, и в то же время остается неотделимой от них. Это, по сути, дробная структура, включающая в себя два дифференцированных термина и их различие в качестве третьего, который одновременно является внутренним и внешним, имманентным и трансцендентным по отношению к тем двум терминам. Таким образом, для любого философского различения или диады, вроде трансцендентальное/эмпирическое, субъект/субстанция, бытие/сущее, différance/присутствие, различие одновременно внутренне и имманентно для различаемых терминов и внешне и трансцендентно в той мере, в какой оно должно оставаться конститутивным для различия между самими терминами. Ибо разделение неотделимо от момента имманентной неделимости, гарантирующего единство-в-различении диадической связки.
В результате получается структура, в которой соединение родственных терминов также является и их разделением – например: чистый синтез как то, что (раз)единяет трансцендентальное и эмпирическое (Кант); самонаправленная негативность как то, что (раз)единяет субъект и субстанцию (Гегель); горизонтный экстазис [horizonal ekstasis] как то, что (раз)единяет бытие и сущее (Хайдеггер); différance как то, что (раз)единяет архитекст и означаемое присутствие (Деррида); «indi-different/ciation» (1) как то, что (раз)единяет виртуальное и актуальное (Делез) – (раз)единение, остающееся со-конституированным двумя понятиями, которые оно должно обуславливать, и таким образом имплицитно содержащееся в обоих. Поскольку оно полагается как данное [given] в и через непосредственное различие между обусловленным данным [datum] и обуславливающим фактом – то самое различие, которое оно должно конституировать, – эта структура предполагает себя как данное [given] в и через данное [datum], которое оно конституирует, и полагает себя как априорное условие, или данность [givenness], в и через факт, который обуславливает это данное [datum].
Таким образом, поскольку разъединение условия и обусловленного одновременно является внешним и внутренним для их соединения, все моменты философского решения являются само-полагающимися (или авто-полагающимися) (2) и самопредполагающимися (или авто-выданными): обусловленное данное дано, будучи априори полагаемым через некоторый обуславливающий факт, который, в свою очередь, артикулируется как обуславливающий только в той мере, в какой он уже был предположен через это данное, и так далее (3). В определенном смысле структура решения является кольцевой, поскольку она уже предполагает себя в любом феномене или наборе феноменов, которые она артикулирует. Отсюда подозрение, что философии удается интерпретировать все и при этом ничего не объяснять, потому что структура объясняющего [explanans], решения, уже предполагается в объясняемом [explanandum], феномену или феноменам, подлежащим объяснению. Однако, строго говоря, структура решения – это не столько кольцо, сколько лента Мебиуса, в которой изгиб, соединяющий внутреннюю и внешнюю стороны полосы и позволяющий им плавно переходить друг в друга, также является изломом, расщеплением или расколом, размерность которого одновременно и больше, и меньше, и превышает, и вычитается из имманентных размеров противоположных поверхностей ленты.
Эта изломанная петля, эта авто-полагающаяся и авто-выданная структура, конституирует присущий философии рефлексивный или зеркальный характер. Она гарантирует, что все потенциально философизируемо, то есть является возможным зерном для решенческой мельницы. Таким образом, если философствование (особенно, в «континентальной» манере) остается скорее несвязной [loose-knit] группой интерпретативных стратегий, чем строгой теоретической практикой, то это потому, что зеркальность решения гарантирует, что мир остается зеркалом философии. Философское осмысление мира становится предлогом для бесконечной самоинтерпретации философии. А поскольку интерпретация – функция таланта, а не строгости, то множественность взаимно несовместимых, но нефальсифицируемых интерпретаций лишь закрепляет неописуемую вездесущность само-охватывающей [auto-encompassing] зеркальности философии. Абсолютная зеркальность порождает бесконечные интерпретации – такова норма философской практики мышления.
Унилатеральная дуальность
Более того, если все философизируемо, то в посткантианской европейской философии наиболее остро в этом нуждается различие между философией и ее другим(и); то есть различие между философским и внефилософским. Континентальная философия живет за счет этого различия между собой и своим зеркальным, воображаемым другим(и): наукой, религией, мистическим, этическим, политическим, эстетическим или даже – что, несомненно, является симптомом крайнего отчаяния – «обыденным». Все потому, что философия находится в конститутивной связи с внефилософским, как бы оно не характеризовалось, «не» в «не-философии» указывает на подвешивание всеохватывающей зеркальности философии, а не на наивную попытку ее демаркации или делимитации – что просто бы повторило жест решения.
Таким образом, если отношение между философским и внефилософским является конститутивно диалектическим (где «диалектическое» понимается как «дифференциальное» в самом широком смысле), и поскольку диалектическая взаимосвязь, отстаиваемая философией, неизменно является билатеральной взаимностью (следуя кольцевой логике решения), то отношения между философией и не-философией – это отношения, которые Ларюэль называет «унилатеральной дуальностью» – «унилатеральной дуальностью», а не просто «унилатеральностью». Это ключевой технический нюанс. Понятие «унилатеральной дуальности» лежит в самом сердце не-философского предприятия Ларюэля, и важно отличать его от понятия унилатерального отношения, которое хорошо известно в философии: X унилатерально отличает себя от Y, при этом Y в ответ не отличает себя от X. Различные неоплатоники, Гегель, Хайдеггер, Деррида и Делез по-разному (имплицитно) используют это логику унилатеральности. Но в философии унилатеральность X всегда переписывается в билатеральное отношение с Y на дополнительном мета-уровне, доступном субъекту философии, который занимает позицию обзора vis-àvis X и Y и продолжает рассматривать оба понятия в отношении друг к другу одновременно. Таким образом, унилатеральность X по отношению к Y действует только на уровне X и Y, но не для философа, который освобождает себя от этого имманентного отношения посредством трансценденции. Философ всегда является зрителем, который смотрит на все (понятия и отношения) сверху. Это то, что Ларюэль подразумевает под зеркальностью.
В противоположность этому, в не-философской логике унилатеральной дуальности, именно субъект не-философии (то, что Ларюэль называет «Чужестранец»[the Stranger-subject]) (4) теперь осуществляет унилатерализирующее тождество понятия Y, пока философия отражает унилатерализированное различие понятия X, поскольку отличает себя от Y. Следовательно, это не не-философия унилатерально отличает себя от философии, а философия унилатерально отличает себя от не-философии. Но в не-философской мысли дополнительное измерение зеркальной рефлексивности, через которую философ может наблюдать за отношениями X и Y, эффективно редуцируется, становится недействительным, так что унилатеральное отношение между X и Y само становится унилатеральным, лишенным своего трансцедентного, билатерального ограничения через субъекта философии и остается только унилатерализирующее тождество Y как субъекта не-философии и унилатерализированное различие между X и Y как философии. Y, субъект не-философии, теперь радикально безразличен к различию между X и Y, философией и не-философией. Эта тотальная структура и есть то, что Ларюэль подразумевает под унилатеральной дуальностью: структура, включающая в себя не-отношение (субъект не-философии как унилатерализирующее тождество) и отношение отношения и не-отношения (философия как унилатерализированное различие между X и Y). В отличие от философской унилатеральности, которая всегда в конечном итоге имеет две стороны, унилатеральная дуальность, лежащая в основе не-философии, – это дуальность исключительно с одной стороной: стороной философии как различия (отношения) между X (отношение) и Y (не-отношение). Соответственно, если пик диалектической зеркальности достигается в артикуляции отношения между философским и внефилософским как «отношение отношения и не-отношения», то унилатеральная дуальность как недиалектическое «отношение» между философией и не-философией должно быть понято в терминах «не-отношения отношения и не-отношения». Еще раз, в отличие от философской диалектики, не-философия осуществляет унилатеральную дуальность, имеющую только одну сторону – сторону философии как всеохватывающей реляционности. Поскольку философское решение всегда двусторонне, то есть диалектично, не-философская унилатерализация решения не может быть переписана диалектически.
Аксиоматическое подвешивание решения
Новаторским в озабоченности европейской философии XX века инаковостью и различием [5], предполагает Ларюэль, является попытка использовать последнее как способ признания и мобилизации структуры слепого пятна в решении, момента абсолютного разделения как абсолютной неделимости, дробного избытка [surplus] или неделимого недостатка, который (раз)единяет решение и делает возможной философскую рефлексивность, лишая тем самым философию попытки ухватить не-зеркальный корень собственной зеркальности. Если европейская философия двадцатого века последовательного изображала это состояние как апорию, цезуру или необъектевируемый избыток [excess] (например, différance, нетождественность [non-identity], Unterschied, событие, другой, реальное и так далее), то это потому, что она пыталась схватить не-рефлексивный корень рефлексивности с помощью рефлексивных средств. Отсюда апоретическая или находящаяся внутри-решения [intra-decisional] характеристика последнего как условия (не)возможности философии; как безымянного травматического ядра, которое сопротивляется или разрушает концептуализацию.
По мнению Ларюэля, допущение философии того, что решенческая рефлексивность является единственной доступной парадигмой для абстрактного мышления, и что зеркальная абстракция – единственный возможный вид абстракции, приводит к этой апоретической характеристики не-тетического корня решения. Однако не-зеркальная парадигма теоретической абстракции уже существует, настаивает Ларюэль. Более того, она существует именно в той форме мышления, которую «континентальная» философия последовательно умаляла и унижала как не-мыслящую: аксиоматической. Поскольку философия не может представить себе мысль, действующую без обращения к разбитому [fractured – обыгрывается упомянутая выше дробность решения и буквальная разбитость – прим. пер.] зеркалу решения, ведь она приравнивает мышление к бесконечной зеркальности и нескончаемой интерпретации, она не может представить себе ни одной достойной мысли, которая не была бы ни зеркальной, ни интерпретативной. Однако аксиоматическая абстракция обеспечивает парадигму именно такого мышления: не-зеркального, не-рефлексивного. Эта нететическая или имманентно перформативная мысль коренится в не-рефлексивном корне решения, аксиоматически полагая его как собственное условие, а не пытаясь схватить его рещенчески и терпя крах (именно этот крах вытекает в апоретическую характеристику не-тетического корня решения как немыслимой цезуры или препятствия для концептуализации). То, что является препятствием для концептуализации решения – препятствием, чей квази-непреодолимый статус подпитывает постмодернистский статус предельного истощения – обеспечивает новый базис для аксиоматического изобретения. Речь идет о том, чтобы аксиоматически полагать не-тетический корень решения, не предполагая его через решение. Или (что сводится к тому же) предположить его через аксиому вместого того, чтобы полагать его через решение.
Для Ларюэля мышление такого рода – аксиоматическое или не-философское мышление – не просто возможно, но реально, то есть радикально перформативно (об этой перформативности мы еще скажем ниже). Таким образом, если «не» в не-философии не является отрицанием философской рефлексивности, то это потому, что оно указывает на мышление, для которого философское решение как бесконечная рефлексивность, охватывающая и интегрирующая собственные пределы, уже подвешено через акт аксиоматического полагания. Но что мешает этому аксиоматическому подвешиванию решенческой зеркальности стать еще одним решенческим расколом между философским и внефилософским, так это тот факт, что оно осуществляется на основе имманентности, решение насчет которой не принималось: имманентности, которая не была полагаема и предполагаема как данная через трансцедентный акт решения, но аксиоматически полагается как уже данная, независимо от любого перцептивного или интенционального предполагания, равно как и от жеста онтологического или феноменологического полагания. Она полагается как уже данная и как уже детерминирующая свое собственное полагание.
Таким образом, эта не-решенческая имманентность, позволяющая полагать себя как уже данную без решенческого полагания является имманентностью, которая не нуждается в освобождении от трансцендентности, порождаемой решением: именно как то, что уже отделено (без отделения) от решенческого со-конституирования данного и данности, имманентности и трансцендентности, она обусловливает свое собственное полагание как уже данной. Следовательно, эта не-решенческая имманентность не является делезианской плоскостью имманентности, которая одновременно предполагается как до-философски данная и конструируется или полагается как данная через философский концепт [6], в соответствии с решенческим со-конституированием данного и данности, полагания и предполагания. Там, где решение делает полагание и предполагание со-конститутивными – полагание предполагания и предполагание полагания (как в образцовом гегелевском анализе логики рефлексии в «Науке логики»), не-решенческая аксиома разделяет их таким образом, чтобы сделать имманентность, которую она полагала, детерминирующей для собственного описания как уже полагаемую (без-предполагания). Точно так же аксиома, которую она предположила, детерминирующей для собственного описания как уже предположенной (без-полагания).
Следовательно, в отличие от феноменологизированной версии радикальной имманентности Мишеля Анри [7], которая должна освободиться от рефлексивной зеркальности, чтобы считаться не-тетической, не-решенческая имманентность Ларюэля не со-конституируется решением. Не-философская имманентность скорее лишена [foreclosed] решения, а не противопоставлена ему – то есть радикально безразлична к диадическому различению между полаганием и предполаганием, имманентностью и трансцендентностью, данным и данностью, равно как и к любой другой диаде, возникающей в результате решения. Другими словами, она радикально безразлична ко всем диадическим связкам вида: мыслимое/немыслимое, решаемое/нерешаемое, детерминируемое/недетерминируемое.
Теперь должно быть легче понять, почему некое очевидное философское возражение против не-философского полагания радикальной имманентности упускает суть. Это возражение, которое пытается утверждать, что аксиоматическое полагание имманентности как не-решенческой переписывает ее в диаде решение/не-решение, тем самым позволяя ей стать со–конституированной решением, ошибочно по трем пунктам.
Во-первых, в то время как философская зеркальность действует, предполагая взаимность или двусторонность [reversibility] между концептуальным описанием и онтологическим конструированием, не-зеркальное или не-философское мышление этого не делает. Оно действует на основе радикально недвустороннего [irreversible] или унилатеральной дуальности между аксиоматическим утверждением имманентности и ее описание как уже полагаемой. Таким образом, не-философская характеристика радикальной имманентности как уже данной не конституирует ее как данную. Радикальная имманентность онтологически закрыта [foreclosed]. Она остаетася не-конституируемой не потому, что противостоит или сопротивляется конституированию, но потому, что она безразлична к диадическому различению между описанием и конституированием. Это уже конституированное детерминирует свое описание как конституированное. Таким образом, не существует диадического различения между аксиоматическим полаганием имманентности как данного и ее описанием как полагаемой. Вместо этого – унилатеральная дуальность, то есть дуальность, имеющая только одну сторону: описание, которое детерминируется полаганием без детерминации этого полагания в ответ. Эта унилатеральная или не-решенческая дуальность благодаря которой то, что аксиоматически дано, детерминирует собственное описание как данное, гарантирует, что не-философское описание радикальной имманентности как уже полагаемой адекватно ей в последней инстанции, не будучи конституирующим ее. Адекватность без соответствия: такова отличительная черта истины для не-философской аксиоматики, лишенной зеркальности, которая охватывает истину как соответствие, согласованность или несокрытость (aletheia).
Во-вторых, то, что радикальная имманентность закрыта для конституирования, не означает, что она неконцептуализируема. Напротив, она становится безгранично концептуализируемой любого данного концептуального материала именно в той мере, в какой она уже детерминирует собственное описание как адекватное ей в последней инстанции, без того, чтобы какие-либо из этих концептуальных характеристик или описаний становились для нее со-конститутивными или со-детерминирующими. Таким образом, решенческое мышление полагает и предполагает двустороннюю эквивалентность между имманентностью и ее трансцендентной концептуальной характеристикой, то не-решенческое мышление действует на основе недвусторонней дуальности между ними, так что имманентность в одностороннем порядке детерминирует свое собственное трансцендентное концептуальное описание, не будучи детерминируемой им в ответ.
В-третьих, разделение между решенческим и не-решенческим не является само по себе диадическим, то есть возникающим в результате решения. Утверждать это – значит не признавать, что для не-философии это разделение аксиоматически полагается как уже действующее без обращения к решению, в соответствии с природой радикальной имманентности как отделенного-без-разделения и детерминирующего свое собственное описание как уже-разделенного. Соответственно, необходимо, чтобы мы оценили особую радикальность способа, которым «не» Ларюэля отделяет решенческое и не-решенческое. Это не две разные «вещи», которые разделяются. Если бы это было так, то не-философ действительно продолжал бы действовать в рамках решения. Это «не» отделяет сферу делимости во всей ее полноте (решение) от неразделимого (имманентность) как того, что полагается как уже разделенное до необходимости разделяющего решения. Другими словами, не-философское полагание имманентности как уже данной аксиоматически отделяет решенческое разделение (расщепление, различение, дифференциация, разделение, диалектика) от неразделимого как того, что уже разделено, независимо от всякого разделяющего решения.
Конечно, характер решенческого мышления таков, что оно не может признать это аксиоматическое разделение между решенческим и не-решенческим как нечто уже осуществленное, уже достигнутое для не-философии. Решенческая зеркальность не может допустить аксиоматического полагания радикально автономной, не-зеркальной имманентности. Однако, по мнению Ларюэля, эта неспособность не свидетельствует о растерянности философов, а является симптомом необходимого сопротивления философии и не-философии. Это сопротивления не является досадным, произвольным выражением философских предрассудков, оно полностью и обоснованно необходимо. Оно структурно присуще решению, а не эмпирически обусловлено. Другими словами, оно скорее де-юре, чем де-факто. Решенческое мышление запрограммировано настаивать на том, что аксиоматическое полагание имманентности равносильно еще одному случаю разделения, возникающему в результате решения. Оно вынуждено сводить аксиоматическое подвешивание решения в соответствии с имманентностью к находящейся внутри-решения оппозиции решению или анти-решенческой аннигиляции решения. И вместо того, чтобы быть проблемой или препятствием для не-философии, это философское сопротивление является именно тем, что необходимо не-философии для работы. Решенческое сопротивление радикальной имманентности дает не-философии окказиональную причину [occasional cause], необходимую ей, чтобы начать работать. Именно оно инициирует не-философское мышление в первую очередь. Без него не было бы никакой не-философии. Не-философия – это преобразование зеркального сопротивления философии не-тетической имманентности в форму не-зеркального мышления, детерминируемого в соответствии с этой имманентностью.
Детерминация в последней инстанции
Таким образом, не-философия работает с философским решением. Она не стремится заменить или вытеснить его. Философское решение является объектом не-философии – более того, ее материалом. Но речь идет о том, чтобы использовать решение не-философски. Следовательно, не-философская аксиома не только полагает имманентность как конечную детерминирующую инстанцию для не-решенческой мысли, но и полагает решенческое сопротивление этому полаганию как нечто, что также уже дано не-решающе как детерминируемый материал; как окказиональная причина, которая может быть детерминирована в соответствии с имманентностью, не допускающей решения. После аксиоматически заданной имманентности как детерминирующей инстанции, вторым аксиоматически данным фактором для не-философии является решенческое сопротивление имманентности как детерминируемой случайности.
Соответственно, не-философия – согласование двух причин: имманентности как необходимой причины в-последней-инстанции и решенческого сопротивления как окказиональной причины. Не-философия – просто определение второго через первое: это принятие во внимание решенческого сопротивления имманентности как окказионального материала, который должен быть детерминирован в соответствии с имманентностью как причиной в-последней-инстанции. Таким образом, минимальными, но ключевыми координатами для не-философской аксиоматики являются: имманентность как радикально необходимое условие; решенческое сопротивление как окказиональная причина; и имманентное определение решения как трансцендентальное осуществление этого необходимого детерминирующего условия для этого детерминируемого материала.
Теперь мы в состоянии понять, в каком смысле новый способ мышления, иницированный Ларюэлем, должен быть философски беспрецедентным. Синтаксис не-философского мышления – синтаксис детерминации-в-последней-инстанции как унилатеральной дуальности, посредством которой не-философский субъект детерминирует философское решение. Как и многое у Ларюэля, «детерминация-в-последней-инстанции» – выражение с явным философским происхождением – в данном случае, с альтюссерианским. Но, как и любое другое философское выражение, использованное Ларюэлем, оно подверглось не-философской трансформации. У Альтюссера философская диада инфраструктура/суперструктура подразумевает, что последняя инстанция остается взаимно со-конституированной тем, что она детерминирует, в соответствии с билатеральной логикой решения. Для Ларюэля, однако, последняя инстанция отделена-без-разделения от логики решения, которую она унилатерально детерминирует. Детерминация-в-последней инстанции состоит в не-философской трансформации унитарного синтаксиса решения как трансцендентального синтеза или «Одного-из-диады» в унилатеральную дуальность, при которой Одно (т.е. тождество или имманентность) теперь унилатерализирует философскую диаду (т.е. различие или трансцендентность) – не напрямую, поскольку оно безразлично к решению, а через посредничество не-философского субъекта, который полагает имманентность как детерминирующую, а решение как детерминируемое. Структура не-философского субъекта – просто структура унилатеральной дуальности: дуальности, имеющей только одну сторону – сторону решения как трансцендентного различия между решенческим и не-решенческим. «Другой», не-стороной этой дуальности является не имманентность, чье радикальное безразличие исключает любую прямую детерминацию философии с ее стороны, а сам не-философский субъект как унилатерализирующая инстанция, осуществляющая безразличие имманентности. Поскольку философское сопротивление не-философии порождает [occasions] не-философию, не-философский субъект эффективно унилатерализирует (или «дуализирует») собственную диадическую запись [inscription] от рук философского сопротивления. Не-философское мышление состоит в преобразовании билатерального сопротивления философии не-философии в унилатеральную дуальность: не унилатеральную дуальность имманентности и решения, которая не существует, поскольку первая радикально безразлична к решению, но унилатеральную дуальность, осуществлемую субъектом не-философии в той мере, в какой он теперь является органоном для детерминации решенческого сопротивления в соответствии с имманентностью.
Очевидно, что роль, которую играет этот не-философский субъект, мало похожа на роль философского субъекта. Это уже не феноменологический субъект, независимо от того, трактуется ли он в терминах интенционального сознания или бытия-в-мире. Но это и не субъект цезура, самонаправленная негативность. Это не эксплицитно рефлексивный, самосознающий субъект, но и не до-рефлексивный, бессознательный субъект, который является лишь аверсом последнего и поэтому имплицитно схвачен решенческой рефлексивностью. Это просто функция: трансцендентальная функция, которую не-философия осуществляет для философии на основе имманентности как реального инварианта и решения как окказиональной переменной. Субъект как трансцендентальная функция – радикально расформированный, развоплощенный, бессознательный субъект, выполняющий набор квази-алгоритмических операций над философским материалом, детерминируя-его в-последней-инстанции. Эти операции не предполагают ни интерпретации, ни рефлексивности: они слепые, автоматические, механические, то есть не-тетические. Следовательно, не-философский субъект – просто аксиоматизирующий органон, трансцендентальный компьютер, но такой, который Ларюэль предпочитает характеризовать как «униматон», а не автоматон [8]. Это субъект, который был действительно очищен от всех философских привилегий как локуса рефлексии и редуцирован к унилатеральной структуре детерминации-в-последней-инстанции. Таким образом, для не-философии унилатеральность является субъективацией, а субъективация – детерминацией: не-философский субъект детерминирует решение путем преобразования философской диады, которая обеспечивает его материальную поддержку, в теорему, которая – по крайней мере, временно – философски не интерпретируема, поскольку не может быть диадически очерчена или «решена». Однако, в отличие от деконструкции, где апория или нерешаемость высвобождается только для того, чтобы произвести дестабилизацию метафизической концептуальности, унилатерализация решения не-философским субъектом оказывает положительное и расширяющее, а не отрицательное и ограничивающее влияние на философию: не-философская теорема в конечном счете заставляет философию расширить имеющиеся у нее решенческие ресурсы, обязывая ее произвести новую диаду, чтобы решить – реинтегрировать – унилатериальную дуальность, заключенную в этой теореме.
Не-философская тождественность теории и практики
Детерминация или унилатерализация – это не просто то, что делает субъект не-философии, это то чем он/она является. Перформативность является отличительной чертой мышления в соответствии с имманентностью. Она служит критерием для важного противопоставления самодостаточной или философской практикой философии и не-философской практикой. Зеркальная самодостаточность философии означает, что философская практика философии на самом деле не является теоретической практикой, скорее эмпирической деятельностью, притязания не теоретическую легитимность которой обеспечиваются лишь через ее исполнение [performance]. Таким образом, философия – это игра, правила которой всегда эффективно гарантированы в силу операции, через которую учреждается [enacted] их положение. Более того, философ переписывает его/ее собственную философскую деятельность в рамках решенческого отзеркаливания, которое делает эту деятельность со-конституирующей реальное на уровне, являющемся одновременно онтико-эмпирическим и отнологически-трансцендентальным (вновь решенческий гибрид). Точнее, синтаксис решения учреждает или исполняет [performs] собственную галлюцинаторную реальность в том, что фактически равнозначно операции автодедукции с тройственной структурой: решение одновременно является эмпирически обусловленным высказыванием [enunciation]; высказываемым фактом, обуславливающим это высказывание; и, наконец, трансцендентальным синтезом высказываемого условия и условия высказывания как события мысли. Такова сложная внутренняя архитектура, присущая решенческому «авто» как самополагающему/самовыданному кругу или дуплету [9].
Для Ларюэля проблема этого перформативного измерения философской деятельности, этого решенческого автозапуска, заключается не в его перформативности (отнюдь), а в том, что оно неизменно действует на основе неустановленного набора констативных допущений, которые сами становятся только перформативно легетимированы. Другими словами, философия состоит в со-конституировании теории и практики: это теория, познавательные возможности которой ущемлены посторонним набором практических требований, и практика, перформативные возможности которой затруднены излишне ограничительной системой теоретических допущений [10]. Философ, по сути, никогда не говорит того, что он/она действительно делает, и не делает того, что он/она действительно говорит.
Ларюэль возражает против такого со-конституирования теории и практики, констативного [constative] и перформативного, на том основании, что оно без необходимости ограничивает возможности высказывания и делания, теории и практики. Более того, просто устранить différance между теорией и практикой, констативным и перформативным – значит самодовольно вновь подтвердить вовлеченность философского решения в его собственную само-предполагающуюся, само-сохраняющуюся структуру.
Полагая радикальную имманентность как уже-исполненную [already-performed], как исполненную-без-исполнения, не-философский субъект приводит в действие не-решенческую сущность перформативности [11]. Он освобождает тождество (без синтеза или единения) теории и практики, преобразуя их решенческое со-конституирование в унилатеральную дуальность, посредством которого субъект перформативно унилатерализирует диадический синтез высказывания и делания. Таким образом, не-философский субъект высвобождает радикально перформативный характер теории и строго познавательный характер практики. Не-философия – это и теоретическая практика, и перформативная теория. Более того, именно в той мере, в какой не-философ уже действует в соответствии с имманентностью как «уже-исполненной», он или она не может не говорить, что он/она делает, и не делать то, что он/она говорит.
Реальность и контингентность не-философии
Следовательно, для Ларюэля не-философия – это больше, чем просто возможность. Она реальна – более радикально реальна, чем любая позитивность или эффективность, измеряемая философски в терминах эмпирической конкретизации или актуальности. Вопрос о ее возможности – философский: он продолжает предполагать обоснованность философской проблематизации того, что больше не является проблемой для не-философии; того, о чем для нее просто не может быть и речи – радикальной имманентности как реального корня решения и, следовательно, как ответа на всякий философский вопрос. Конкретнее, радикальная имманентность – это ответ [solution], который предшествует возможности проблематизации, возникающей в результате решения.
Очевидно, однако, что если радикальная имманентность является не-философским реальным, то это уже не то реальное, которое философски характеризуется в терминах восприятия, сознания, материальности, производства, власти, социального и так далее. Это также не реальное как бытие, différance, Ur-grund, ноумен, вещь-в-себе, воля к власти, самонаправленная негативность, Unterschied, нетождественность, абсолютная детерриториализация. Напротив, это просто реальная имманентность как совершенно пустой инвариант=X. Это инвариант, который не сопротивляется философии, но безразличен к ней, и поэтому может быть аксиоматически детерминирующим для мышления, основанного на любом философском поводе. Это инвариант, пустая прозрачность которого не делает его невосприимчивым для познания, но, напротив, может аксиоматически конкретизирован с помощью любого философского материала.
Таким образом, специфическое открытие Ларюэля, делающее не-философию эффективной, заключается в том, что реальное не является философской проблемой: это позитивно ничто. И тот факт, что реальное больше не является проблемой для не-философии, позволяет изменить способ мышления. Вместо того, чтобы философски идти от мысли к реальному или использовать философию для осмысления реального как различия или как отличающегося от любого другого философского термина, не-философски идти от имманентного тождества реального к философии как зеркальной трансценденции, которая стремится разделить, отличить или дифференцировать реальное от какого-то другого термина, а затем отразить мир через это различие. Вместо того, чтобы использовать зеркало философии для осмысления трансцендентности «реальных» объектов в мире, не-философия прибегает к имманентности реального для де–зеркализации тех объектов, которые философия окутывает в свою рефлексивную трансцендентность. Из этого следует, что объектом не-философии является не реальное, которое никогда не было объектом, даже немыслимым, но философская зеркализация реальных объектов.
Однако, поскольку не-философия существует только как имманентная аксиоматическая детерминация сопротивления философии имманентной детерминации, имеет ли эта де-зеркализация какую-либо обязательную силу для философии как таковой? Может ли что-то вроде не-философского предписания изменить мышление стать императивом для философов?
Сам Ларюэль первым признал бы, что в не-философии нет ничего необходимого. Философ не обязан переходить от философской к не-философской позиции. В отличие от философской революции, смысл существования которой вытекает из видения истинных задач философии, аксиоматическая ересь Ларюэля не может быть философски легитимирована через ссылку на нестерпимый недостаток между тем, что делала философия, и тем, что она должна делать. Хотя концептуальные озабоченности, которые – после долгих и трудных обходов – привели Ларюэля к его открытию, имеют почтенную философскую родословную, они не могут быть использованы для придания ему ауры необходимости. Таким образом, с философской точки зрения, не-философская практика не является ни необходимой, ни неминуемой. В отличие от хайдеггерианской/дерридианской деконструкции, которая претендует на собственную неоспоримую «историческую» необходимость – непреодолимую необходимость деконструкции истории метафизики – не-философия просто остается аберрантной возможностью для философа; единственным критерием легитимности которой является эффективность, о которой можно судить только по параметрам самой практики. Поскольку эта практика подвешивает телеологические соображение, в терминах которых обычно оценивается необходимость движения в пространстве концептуальных возможностей, Ларюэль вынужден отрицать, что философы обязаны признать уместность его открытия и начать практиковать философию не-философски.
Интересно, что те самые соображения, которые делают не-философию беспроблемно реальной и моментально функционирующей для не-философа, также гарантируют, что для философа она остается на безопасном расстоянии, надежно закрепленной в сфере возможностей. И все же остается вопрос: для чего нужна не-философия? Это философский вопрос, но, возможно, он не может быть полностью снят не-философией путем простого отсылания вопрошающего к эффективности не-философской практики. Поскольку единственная философская легитимность, на которую может претендовать не-философия, – это произвольная возможность, и поскольку ее не-философская обоснованность не подлежит сомнению – можно ли ставить вопрос о ценности аксиоматической ереси Ларюэля, не вписывая ее в философскую телеологию?
Ларюэль сам ссылается на желательность «расширения возможностей мысли» как на один из способов легитимации не-философии. И он также предполагает, что, несмотря на то, как это выглядит, привилегирование мысли философией всегда подразумевало подчинение ее какой-то посторонней цели (этической, политической, эстетической и т.д.) и одновременное присвоение этой цели мысли, в соответствии с логикой производимого решением со-конституирования. Таким образом, как кажется Ларюэлю, мысль никогда не была самоцелью философии. Не-философия, напротив, освобождает мысль от всякой цели. Сворачивая зеркальный нарциссизм философии, не-философия освобождает мысль от любого решенческого telos’а.
Следовательно, несмотря на кажущуюся произвольность, аксиоматическая ересь Ларюэля может претендовать на обоснованность для философии: обоснованность эмансипационного жеста в отношении самой формы мышления [12]. «Эмансипация», конечно, является исключительно философским мотивом. Но Ларюэль наделяет его не-философским значением: философская зеркальность является сужающей, поскольку возможности философского изобретения, будь то формальные или содержательные, уже заранее ограничены решенческим синтаксисом философии. Но только с не-философской точки зрения это сужение становится ощутимым. Сами философы совершенно не замечают этого и более чем счастливы продолжать раскручивать вариации на тему решения еще многие века. Если не-зеркальное мышление и обладает определенной связующей силой для философа, готового исследовать его возможности, то она заключается в невозможности возвращения в круговерть решенческого отзеркаливания после того, как он однажды побывал на бескрайних просторах беззеркальной имманентности.
Цена абстракции
Тем не менее, найдется немало тех, для кого карающая абстракция мысли Ларюэля – слишком высокая цена за столь скудное вознаграждение. Не-философия разбивает наиболее щедрых хулителей – то есть тех, кто не просто отбрасывает ее, как непонятную чушь, – а как интересную, но совершенно несущественную. В отличие от Адорно, Хайдеггера или Деррида, Ларюэль не ставит перед собой задачу демонтировать метафизику таким образом, чтобы ее можно было кооптировать в целях идеологической критики. И, в отличие от Делеза или Бадью, он не разрабатывает новую философскую систему, способную охватить широкий спектр современных художественных, научных и социальных явлений. Но чего стоит то, что не является ни критическим, ни конструктивным? Не отступил ли Ларюэль от философии в нечто вроде математизированной теологии радикальной имманентности?
Я полагаю, что ответом на последний вопрос должно быть решительное «нет». В отличие от философов имманентности, вроде Спинозы или Делеза, Ларюэль не принимает решение в пользу имманентности (что значит против трансцендентности) через философское решение, которое имеет этический telos в качестве конечного горизонта: освобождение, достижение блаженства, интеллектуальная любовь к Богу. Хотя этика – философский материал, к которому можно относится не-философски, нет никакой «этики радикальной имманентности» и, следовательно, этики не-философии [13]. Само понятие «этика имманентности» является еще одним примером того, как философское решение неизменно подчиняет имманентность трансцендентному телеологическому горизонту. Но Ларюэль заинтересован в подчинении радикальной имманентности философии не больше, чем в подчинении философии радикальной имманентности. Радикальная имманентность просто не является объектом не-философии. Она даже не интересна: абсолютно банальна, радикально прозрачна. Именно это отличает Ларюэля от Мишеля Анри, чья феноменология радикальной имманентности в конечном счете влечет за собой телеологическое отречение от философии. Однако суть, как неустанно повторяет Ларюэль, не в том, чтобы отказаться от философии в пользу мысли об имманентности, но в том, чтобы использовать имманентность для мысли о философии. Интересны именно последствия имманентного мышления философии, а не философского мышления имманентности. Таким образом, в отличие от философий абсолютной имманентности, вроде философии Спинозы, Делеза или Мишеля Анри, не-философии нечего сказать об имманентности «самой по себе». А вот о чем ей есть сказать, так это о том, как имманентность обеспечивает новое основание для философской практики.
И, наоборот, несмотря на то, что Ларюэль, безусловно, был виновен в поощрении таких ошибочных толкований в прошлом [14], было бы ошибкой видеть в не-философии не что иное, как попытку распространить кантовскую критику метафизики на всю философию. В отличие от кантовской критики, не-философское подвешивание решения не руководствуется нормативным, этико-юридическим telos’ом. Его также нельзя свести к какому-то пост-дерридианскому варианту деконструкции. В отличие от деконструкции, унилатерализация решения предполагает позитивное расширение сферы действия решения, а не просто апоретическое прерывание.
Таким образом, прежде чем поспешно отвергать работы Ларюэля как криптотеологическое отречение от философии, гипердеконструкцию или даже бесплодное упражнение в мета-философском нарциссизме, важно помнить, что пусть у не-философии и нет цели, но у нее есть функция. И хотя ее нельзя легитимировать в терминах некоего трансцендентного теологического горизонта, не-философская практика для чего-то нужна: нужна для философского решения. Любого, кто увлечен философской практикой, должно заинтересовать язвительное разоблачение того, что он называет «теоретическим идеализмом», присущим спонтанной философской практики философского решения. Философы, настаивает Ларюэль, не ведают, что творят. Они никогда не делают того, что говорят, и никогда не говорят того, что делают – особенно когда пытаются обосновать свои философские решения в терминах некой этической, политической или юридической цели. Теоретический идеализм, присущий решению, никогда не бывает так тонок и пагубен, как когда он ссылается на мнимую материальность какой-то внефилософской инстанции, дабы продемонстрировать его «прагматическую ценность». Осуждать Ларюэля за чрезмерную абстрактность на том основании, что ценность философии может быть измерена только по ее конкретным, внефилософским (например, этическим, политическим или юридическим) последствиям, значит игнорировать тот факт, что внефилософская конкретизация неизменно включает в себя идеализированную абстракцию, уже ограниченную решением.
Возможно, четкий, резко очерченный способ абстракции Ларюэля оказывается гораздо более конкретным, чем те туманные абстракции, которые философы пытаются выдать за случаи конкретизации. Иными словами, критерии оценки ценности не-философской функции для философии недоступны самим философам, не ведающим, что они творят. В не-философии радикальная аксиоматическая абстракция порождает не систему или доктрину, приглашающую к согласию или несогласию, но имманентную методологию, функции которой для философии пока никто не в состоянии оценить. В конечном счете, не-философия может быть оценена только с точки зрения того, что она может сделать. А пока никто не знает, на что не-философия способна, а на что – нет.
Примечания переводчика:
* – Под этим термином имеется в виду используемое Брассье «decisional». Данное прилагательное не имеет точного эквивалента в русском языке, однако ясно, что оно имеет значение относящегося к структуре решения, то есть образовано от «decision» [решение]. Мы решили передавать его несколько стилистически неприглядным словом «решенческое», которое, тем не менее, является более универсальным, нежели избыточные конструкции, вроде «производное от решения»/«возникающее в результате решения» и прочие, обладающие большей стилистической эквивалентностью. Мы постарались вставить данные конструкции в перевод там, где это уместно, дабы соблюсти в этих местах определенную степень «литературности» перевода. Однако в большинстве фрагментов был сохранен перевод «решенческое», который наиболее доступно передает значение принадлежащего к измерению философского решения, о котором говорит Ларюэль.
Примечания:
1. Ларюэль родился в 1937 г., является профессором Университета Париж X — Нантер, где преподает с 1967 года.
2. Например: Альтюссер, Бадью, Деррида, Делез, Фуко, Лакан, Лиотар, Серр.
3. Au-delà du principe de pouvoir, Payot, Paris, 1978, p. 7.
4. Радикально еретический характер мысли Ларюэля, ее абсолютно неклассифицируемая чужестранность, неизменно вызывала враждебность и недоумение не только у блюстителей философской ортодоксии во французской академии, но и у относительно неортодоксальных философских коллег. Печальным результатом, после определенной степени интеллектуальной дурной славы среди парижского авангарда 1970-х годов, стало положение почти полной интеллектуальной изоляции. Ларюэль продолжает вызывать у своих коллег-философов своеобразную смесь насмешек и страха. Насмешки возникают, потому что его работы считаются совершенно «непостижимыми». Страх – потому что эти же философы, привыкшие сбивать с толку непосвященных, испытывают тревогу от собственной неспособности понять Ларюэля. Однако, вопреки утверждениям этих философов, в творчестве Ларюэля нет никакой мракобесии или намеренной эзотерики. Понимание этого – не вопрос посвящения: оно не предполагает подробного знакомства с корпусом священных текстов, изобилующих всевозможными лексическими уловками или непонятной игрой слов. Трудность, которую представляют работы Ларюэля, совершенно объективна: речь идет о том, чтобы научиться думать иным способом, радикально отличающимся от того, как учили думать философа. А после того, как научишься мыслить не-философски, необходимо применить эту технику на практике, чтобы увидеть, что она способна дать. Работы Ларюэля представляют читателю органон, инструмент, которым нужно научиться пользоваться, чтобы оценить его потенциал, а не систему или мировоззрение, доктрины которого приглашают к согласию или несогласию.
5. Например, Хайдеггер, Деррида, Делез. Ларюэль анализирует эту проблематику в Les philosophies de la différence, PUF, Paris, 1986.
6. Gilles Deleuze and Félix Guattari, What is Philosophy?, trans. G. Burchell and H. Tomlinson, Verso, London, 1994.
7. Michel Henry, The Essence of Manifestation, trans. G. Etskorn, Martinus Nijhoff, The Hague, 1973.
8. Ларюэль делает наброски не-философской трактовки проблемы «мыслящих машин» в двух недавних работах: Théorie unifié de la pensée et du calcul и Performance et Performé. Здесь я должен заметить, что сам Ларюэль, вероятно, не одобрил бы того, что счел бы моей чрезмерно «машинной» характеристикой не-философского субъекта.
9. Эта структура, производимая решением, работает в машинном конструктивизме Делеза и Гваттари: философский концепт, противопоставленный интенсивной материальности, одновременно извлекается из эмпирического положения вещей, через которое философ вынужден мыслить, и трансцендентально произведен в бытии как событии. Но, возможно, лучшим примером служит Хайдеггер, переписывающий условия генезиса проекта фундаментальной онтологии в структуре самой фундаментальной онтологии. Таким образом, философский проект, очерченный в «Бытии и времени», включает в себя условия собственной возможности, которые эксплицируются в переходе Dasein от рассеянности в повседневности к надлежащему мета-физическому присвоению бытия-к-смерти как собственной потенции бытия. Поскольку именно через собственное бытие Dasein ставится под вопрос, фундаментальная онтология как теоретический проект в конечном счете следует за экзистенциальным ур-проектом, очерченным в бытии-к-смерти.
10. «Как только философия станет использоваться как простой материал или вещь, подвернувшееся по случаю, она потеряет потеряет своё традиционнее целеполагание, которое обосновывается своей «самопроизвольной философской верой» (кавычки скорее всего аллюзия на Луи Альтюссера – прим. LPF) Последняя образует петлю: она заставляет практиковать философию в силу этических, юридических, научных и эстетических причин, выступающих внешними ей. Однако сама философия воспользуется этим целеполаганием, чтобы восторжествовать над этими внешними инстанциями, подчинив их, и утвердить себя в качестве единственного благородного дела — единственного абсолютного и неминуемого дела. Раздача предписаний, будь то этика или педагогика, использование философии в нормативных или самонормативных целях, т.е. вся скрытая или явная телеология упомянутой самопроизвольной философии, должна быть оставлена, а скорее — уничтожена, должна рассматриваться как простой материал и отныне практиковаться внутри таких пределов» (Laruelle, Philosophie et non-philosophie, Mardaga, Liège, 1989, p. 27). Перевод примечания — La Pensée Française.
11. Исполненное [le Performé], освобождённое от фетишей в виде перформативности [performativité], деятельности и causa sui, пронизывает мышление, будучи идентичностью (относительно автономной от последнего) науки и философии, а в более общей перспективе — идентичностью теоретического и прагматического. Мы не будем поспешно заявлять, что мышление исполняется «В-одном», поскольку это вновь означало бы смешать Реальное и мышление, но скажем, что оно исполняется в-Одном в последней инстанции, и его исполняет Один, сам будучи исполненным. (Laruelle, Principes de la non-philosophie, PUF, Paris, 1996, p. 215). Перевод примечания — La Pensée Française.
12. Об этом пишет Хьюз Чоплин в своей восхитительной монографии La non-philosophie de François Laruelle (Kimé, Paris, 2000).
13. См., например, Éthique de lʼÉtranger (Kimé, Paris, 1999), где дается именно такая трактовка.
14. Особенно в некоторых работах из Philosophie II, таких как Philosophie et non-philosophie и En tant quʼun (Aubier, Paris, 1991).
Примечания La Pensée Française:
1. Игра слов «différenciation» / «differentiation» предлагается Делёзом в тексте «Различие и повторение», а также — более раннем программном выступлении «Метод драматизации». Термином «различение» или différenciation называются процессы видообразования и обрастания качествами (spécification et qualification), через которые проходит всякая вещь, обретающая устойчивость в мире репрезентации. Тогда как «differantiation » или «дифференциация» обозначает субрепрезентативный интенсивный процесс, который непрерывно существует ПОД этой вещью. Вещи, относящийся к миру представления различаются (se differenCie) и появляются ровно тогда, когда субрепрезентативные дифференЦиальные процессы теряют свою интенсивность, стабилизируются и обретают организацию.
Официальный русский перевод отражает эту игру слов через пару терминов: «дифференциация»/«дифференСиация»».
Игра слов «(in)different/ciation» восходит к существительному indifférence, которое может быть переведено на русский как (без-различие). В то же время «(in)differenT/Ciation» обозначает процесс, поэтому может быть переведено как (без)-различение. Таким образом, процессам differenCiation и differenTiation соответствуют два модуса пренебрежения (это несколько условный термин) различием. В делезовской интенсивной глубине настолько много различия, что она в большей мере походит на унифицированный бульон, в котором нельзя распознать ничего, поэтому этот аспект может быть назван indifferenTiation. Тогда как стабильные и, на первый взгляд, завершенные факты из мира представления не дают увидеть скоростного интенсивного процесса, скрывающегося за ними, из-за чего и оказывается уместным слово «indifferenCiation».
2. В «Словаре не-философии» Ларюэль даёт «автополаганию» следующее определение: «Наивысший акт философского Решения, посредством которого философская вера в реальное позволяет этому решению галлюцинаторно полагать себя как Реальное. Следовательно, оно выступает причиной того, что философия производит впечатление имеющей отношение к реальности. Якобы реальное самополагание трансцендентального Единства, присущее философии, выступает первичным фактором устранения созерцания-в-Одном».
3. О различии между poser и pré-supposer. Оба глагола отсылают к слову «position», которое может быть понято как статично — «положение», так и в качестве процесса — «полагания». Если изначальный акт принятия Решения может называться position (или autoposition, если мы хотим наделить субъектностью само решение), то решение, воспринимающееся как объективно встроенное в действительности будет «предполагаться» (se présupposer), что и сообщается приставкой «pré», которое дословно переводится на русский как «до» или «пред». Помимо этого, нельзя не обратить внимание, что русское «предполагание» теряет важную фонему, которая присутствует во французской версии: «préSUPposer». Вторая приставка означает «под», из-за чего восприятие готовых философских решений сопряжено с «подлогом», который может пониматься как «подлог» созерцания-в-Одно и его последующая замена на бинарные (необязательно) оппозиции, которыми пользуется философия.
В отношении не-философского «радикального имманентного» употребляется термин «полагать», но с большей долей условности, потому что любые базовые категории не-философии: Один, Созерцание-в-Одном или радикальная имманентность мыслятся как «полагаемые-без-полагания». Другими словами, за ними ничего не стоит в качестве их трансцендентального условия. Тем не менее, Ларюэль вводит эти категории аксиоматически, что Брассье также называет полаганием, тем самым создавая двусмысленность. Таким образом, читателю следует различать «полагание Решения» и «аксиоматическое полагание».
4. «Если человек обнаруживает свою реальную сущность в абсолютно неделимой имманентности (данное-без-выдачи), если он не выступает ни индивидом, ни субъектом, ни сознанием, ни бессознательным, но тем, что называем «созерцанием-в-человеке» или «созерцанием-в-Эго», — своего рода Я, которое не выступает не субъективным, ни объективным, а имманентным себе, то в таком случае он больше не делится между Я и Другим, тогда как последний больше не размещается ни вне (или одновременно и внутри и снаружи) Я, но само имманентное Я существует в новой структуре, которая называется Чужестранцем, поэтому я существует-чужестранно. Если это Я-в-Я реально и определяет всякого человека, и даже «чужестранцев», если оно выступает залогом [gage], которым безраздельно владеет [jouit] каждый человек, — залогом радикальной идентичности, в которой ему не может быть отказано, то в таком случае при определённых условиях это Я может быть названо «Чужестранцем». Если мы будем выражаться аутентично философскими терминами, но трансформированными нашими гипотетическими условиями, то скажем, что Я реально, а Чужестранец — трансцендентальное свойство этого Я, что не означает, что это свойство неустойчиво или «нереально» в вульгарном или онтологическом смысле этого слова». Итак, больше не нужно совершать деление между идентичностью и чужестранностью, разделяющей двух индивидов или двух людей, один из которых — субъект, тогда как другой — нет, один из которых влияет на другого и тормозит [inhibe] его подобно запрету: каждый из людей полностью с наслаждением владеет своей идентичностью, а поэтому- снабжён чужестранным существованием. Чужестранец более не «другие», но в каком-то смысле «Я», но при условии, что теперь он слышит [entendre, слышать/понимать] Я-в-Я в качестве квази-инфраструктуры, а Чужестранца — в качестве квази-надстройки, внутри которой он существует. «Мы все иностранцы» больше не немыслима, но оказывается теоретически последовательной при условии, что мы избавимся от везде-сущего философского слова «все» и заменим его на идентичность «всякий» или на идею имманентности без изъяна, которая и определит «реального» или «обыкновенного» человека.
Перевод отрывка из Théorie des étrangers (Kimé, Paris, 1995), p. 13.
